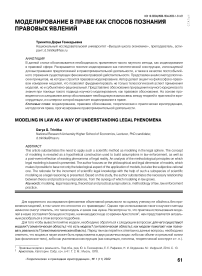Моделирование в праве как способ познания правовых явлений
Автор: Тринитка Д. Г.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
В данной статье обосновывается необходимость применения такого научного метода, как моделирование в правовой сфере. Раскрывается понятие моделирования как гипотетической конструкции, используемой для выстраивания предположений в правоприменительной деятельности, а также в качестве постсобытийного отражения существующих феноменов правовой действительности. Представлен анализ методологических принципов, на которых строится правовое моделирование. Автор делает акцент на философско-правовом измерении моделей, что позволяет фундаментировать не только телеологический аспект применения моделей, но и субъективно-рациональный. Представлено обоснование приращения научного юридического знания при помощи такого подвида научного моделирования, как правовое обоснование. На основе проведенного исследования автор обосновывает необходимую взаимосвязь между теорией и практикой в юриспруденции, из синергии которой вырастает моделирование в праве.
Моделирование, правовое обоснование, теоретическая и практическая юриспруденция, методология права, прогнозирование правоприменительной деятельности
Короткий адрес: https://sciup.org/14123715
IDR: 14123715
Текст научной статьи Моделирование в праве как способ познания правовых явлений
Для корректного исследования феноменов объективной реальности ни одному ученому не обойтись без применения моделей, в том числе это относится и к правоведам1. Однако при использовании такого научного метода немногие смогут ответить, что такое модель и зачем она нужна. Несмотря на то, что практика использования моделей в науке составляет большую историю, начинающуюся еще со времен Аристотеля2, нам представляется актуальным разобраться в этом вопросе подробнее.
Для того чтобы вывести понятие модели, необходимо обратиться к следующим вопросам: для чего существуют модели? (семантическая область); что есть модель? (онтологическая область); как модели помогают нам познавать реальность? (эпистемологическая область) . Перед тем как перейти к ответам на данные вопросы, необходимо отметить, что модель в науке может быть представлена в двух различных видах: либо как объект из реальной жизни (как физическое тело), либо как умственная конструкция (как концепция, гипотеза, теоретический конструкт и т. п.).
СТАТ Ь И
Для выполнения целей данной статьи мы предпочтительно под моделью будем иметь в виду именно теоретический пласт моделей, преимущественно используемый в юриспруденции, обоснование чему будет приведено ниже.
-
1. Семантическое измерение модели. Модель на теоретическом уровне представляет собой гипотетическую конструкцию, отражающую исследуемую часть объективного мира. Именно посредством моделирования осуществляется перенос объектов из реальной действительности в теоретическую плоскость для того, чтобы возможно было рассмотреть изучаемое, препарировать, разобрать его и впоследствии построить гипотетические конструкции, на которых основывается научная теория.
-
2. Онтологическое измерение модели. Для того чтобы определить сущность построения моделей, необходимо отметить ее функции, то есть ответить на вопрос: для чего они созданы?
-
3. Перейдем к области эпистемологического измерения модели : каким образом модели помогают нам познавать реальность? С одной стороны, ответ на вопрос представляется достаточно простым: модели необходимы для гипотетических построений на метафизическом уровне. Но необходимо отметить описанные ниже важные особенности.
Здесь стоит сказать о том, что такие модели следует делить на два вида: это отражение феноменов и отражение данных. Некоторые могут возразить, что это две категории, противоречащие друг другу3. Стоит не согласиться с этим, так как скорее это два этапа одного процесса. То есть на одном этапе моделирования данных мы занимаемся поиском, сбором и структуризацией информации, отражающейся в модели данных. После того как у ученых появляется модель данных, они пытаются объяснить такое положение системы и вырабатывают модель феноменов, которая может включать в себя не только несколько моделей данных, но и уже существующие модели феноменов.
Приведем пример в сфере юриспруденции: возникновение новых правоотношений принуждает исследователей к перенесению такого объекта в теоретическую плоскость. Для этого исследователям необходимо первоначально собрать данные о проявлении таких правоотношений в реальной жизни и привести их в системный вид (создать модель данных). После этого необходимо перейти ко второму шагу. Именно на нем из модели данных конструкция превращается в модель феномена правоотношений, которая включает в себя как модели данных, так и модели феноменов низкопорядковых элементов: в понятие правоотношений включаются не только их характеристики, реально проявляющие себя в жизни, но и уже существующие модели (например, понятие права и физического лица как базисные элементы в построении правовых моделей).
Таким образом, в каждую модель какого-либо феномена в качестве теоретической конструкции включаются как образы этого элемента из объективной реальности, так и уже существующие конструкции-модели, которые помогают ученым правильно выстраивать свои конструкции.
Безусловно, существует большое количество моделей, применяемых в различных сферах научной деятельности, однако все эти концепции можно привести к одному знаменателю. Во-первых, если рассматривать модель в качестве продукции мозговой деятельности, модели необходимы для переноса явлений объективной реальности в теоретическую плоскость, о чем мы уже упоминали ранее. Во-вторых, модели помогают ученым деконструиро-вать их на элементы для того, чтобы можно было выделить сущность явления посредством признаков включаемых элементов. В-третьих, модели применяются для того, чтобы на их основании можно было спрогнозировать работу процессов в будущем. В-четвертых, выделяют функцию переноса из одной области знания в другую, при помощи которой происходит междисциплинарное взаимодействие4 и приращение нового знания. В-пятых, модели представляют собой удобную форму для апробации существующих теоретических знаний в реальности. Так, например, конструкторы могут придумать вариант нового двигателя внутреннего сгорания, но перед тем как запустить такой двигатель в массовое производство, происходит череда многочисленных испытаний, которые проводятся как раз-таки при помощи моделей таких двигателей. И в-шестых, по порядку, но не по значимости, конструирование моделей помогает ученым порождать новое знание, которое изначально существует на уровне идей и концепций. Стоит отметить, что в данном случае модель зарождается не на этапе переноса реальных объектов в теоретический мир, а наоборот: сначала такая модель возникает на метафизическом уровне, а потом может переходить (необязательно) из мира идей в мир вещей по Аристотелю.
В научном сообществе одним из самых распространенных методов определения понятий является выделение его основных признаков. Например, Е. Н. Салыгин определяет моделирование так: «Моделирование, таким образом, предполагает наличие в реальной действительности определенного объекта (оригинала) — предмета, явления или процесса, воспроизводящегося познающим субъектом в некоем материальном или мысленном прообразе, модели, которая может в определенных обстоятельствах заменять объект и предоставлять о нем информацию»5.
Стоит также привести определение моделирования А. В. Панина, который дает следующую дефиницию: «Моделирование — это такой метод исследования, при котором интересующий исследователя объект замещается другим объектом, находящимся в отношении подобия к первому объекту. Первый объект называется оригиналом, а второй — моделью. В дальнейшем знания, полученные при изучении модели, переносятся на оригинал на основании аналогии и теории подобия»6.
СТАТ Ь И
При построении моделей, какими бы они ни были: либо сильно приближенными к реальности, либо очерченными крупными мазками, стоит помнить, что модель — это концепция. Причем концепция, которая не может при всех ее достоинствах идеально отражать вещь в мире. Это связано не только с тем, что модели бывают не проработаны, а преимущественно с тем, что теоретические и практические плоскости никогда не смогут полностью наложиться друг на друга. Всегда существуют определенные лакуны и аномалии, выбивающиеся из общей концепции в силу неоднородности жизненных процессов. Также важный фактор научного моделирования — это автор модели — исследователь. Мы не стремимся полностью примкнуть к позициям релятивистов7, говоря о том, что все разнообразие реальности невозможно описать в рамках теории, однако фактор конкретно психофизических субъективных воззрений имеет место. Так, например, марксисты (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др.), рассматривая определенный вид правоотношений, несомненно, скажут нам о том, что правоотношения определены в своем существовании эко-номикой8. Напротив, социологи права (Г. Гуго, Ф. К. Савиньи, О. Эрлих, Т. Парсонс, Н. Луман и др.) будут доказывать тот факт, что правоотношение определяется социальными взаимосвязями в конкретном обществе9. Однако такое различие не ставит под сомнение сам факт выработки юридических моделей, которые помогут глубже проникнуть в суть явления, пусть и с различных точек зрения.
Далее необходимо раскрыть вопрос применимости моделей. Несмотря на многообразие применяемых научных методов, следует отметить, что существуют ситуации, в которых исследователю необходимо избрать именно такой методологический аппарат. Обычно это связано с тем, что мы не можем использовать объект реальности для проведения своих изысканий по различным причинам: как этическим (например, проведение исследований на людях), так и техническим (например, моделирование атмосферы на Уране).
Применительно к юридической науке следует выделить два типа моделирования, зависящих от принадлежности исследователя к одному из дихотомических категорий: теоретики и практики. Применительно к практической юриспруденции моделирование, как методологический инструмент, используется для предсказания поведения индивидуума в определенной правовой ситуации, регулируемой нормативным массивом. В данном случае моделирование приближается к понятию прогнозирования10. В свою очередь прогнозирование также может выражаться вовне по-разному:
-
• прогнозирование действия нормативных правовых актов (обычно используется при разработке законов, исходя из их будущей эффективности);
-
• оценка регулирующего воздействия (применима для анализа существующих правовых норм, их воздействия на социально-экономическую ситуацию и т. п.);
-
• антикоррупционная экспертиза (социально-правовое моделирование, используемое при проведении фундаментальных исследований по профилактике/выявлению/устранению коррупциогенных факторов);
-
• правовой мониторинг (по мнению некоторых исследователей11, метод правового моделирования необходим для изучения нормативных правовых актов) и т. д.
Если говорить о теоретической юриспруденции, то в большинстве случаев исследователи права имеют дело с гипотетическими конструкциями именно из-за того, что право не обладает какой-либо физической характеристикой, с которой конкретно можно было бы проводить исследования. Да, конечно же, возможно было бы смоделировать ситуацию, при которой, например, для определенной части социума была бы отменена частная собственность в качестве апробации модели. Однако в современных условиях это сделать практически невозможно в силу самого факта существования государства, большого количества бюрократических процедур и достаточно консервативно настроенного общества (применительно к России)12. Также стоит отметить, что, несмотря на все существующие меры поддержки со стороны государства для научного сообщества, апробацию моделей на конкретных гражданах вряд ли позволят совершить рядовому ученому, обосновывающему, например, необходимость снятия запрета на эвтаназию. Именно поэтому юриспруденция вынуждена работать исключительно в теоретическом поле, модели в котором, к сожалению, не находят последовательного отображения в реальной жизни.
Также стоит отметить, что своей существующей формой право определяет работу ученых на метафизическом уровне. Это связано с тем, что многие правовые конструкции, помимо того что они не обладают физической харак-
СТАТ Ь И
теристикой, представляются в качестве фикции. Приведем широко известный пример с юридическим лицом. Для всех правоведов не является секретом тот факт, что юридическое лицо — это фикция, существующая для того, чтобы правовая система могла нормально функционировать. Предполагаем, что немногие из юристов задумывались о различиях такой фикции и, например, модели юридического лица. Несмотря на некоторую схожесть понятий, по нашему мнению, отличие в данных категориях следующее: фикция — это нормативное понятие, утвержденное на законодательном уровне, используемое в юридической практике13; а модель — это научный способ объяснения функционирования категории юридического лица, существующий на теоретическом уровне и не закрепленный в нормативно-правовых актах. В идеальном мире научное приращение знания в сфере юриспруденции должно идти путем от модели к фикции, однако такого не происходит. Возможно, это связано с достаточно быстрым уровнем развития современного мира, возможно с тем, что законодатель обладает недостаточно высокой юридической техникой — это не столь важно. Гораздо важнее отметить, что правовая наука переживает не лучшее время, когда перед некоторыми учеными стоит задача в теоретическом обосновании нормативных положений, которые уже функционируют в реальной жизни (принцип ad hoc). Так, например, председатель Конституционного Суда Российской Федерации указывает на то, что «без правовых регуляторов, без проектных чертежей, принятых обществом, трансформация превращается в чудовищную конвульсию»14, с чем нельзя не согласиться.
Однако следует обратить внимание и на то, что не всегда развитие юриспруденции по пути «модель — фикция» гарантирует благоприятный исход для юридического сообщества, что можно увидеть на уже историческом примере принятия ныне утратившего силу Федерального закона «О разграничении собственности на землю»15. В данном случае правовая норма, первоначально сконструированная на теоретическом уровне, потерпела сокрушительное поражение, столкнувшись с бюрократическим механизмом ее применения, что обнажает проблему непродуман-ности на уровне моделирования. Но не всегда проблема может находиться именно в этой плоскости. Полагаем, что большую проблему составляет сам механизм моделирования и прогнозирования отношений в социуме, так как правовая материя наиболее плотно связана с человеческим фактором, где предопределяющую роль играет механизм осуществления правового выбора, который предсказать крайне сложно. Именно поэтому моделирование, в том числе и в правовой сфере, требует большой внимательности исследователя, который обязан применять и другие методы научного познания.
Одним из главных вопросов применения в юриспруденции представляется вопрос сосуществования моделей и отраженных в ней конструкций в правоприменительной деятельности. Как мы уже выяснили выше, понятие модели достаточно многогранно, что усложняет выведение общей дефиниции этого понятия. Но никто не будет оспаривать того факта, что модель — это гипотетическая конструкция, содержащая в себе воспроизводимые слепки реального или будущего объекта действительности. Самая большая проблема использования моделей, на наш взгляд, в таком случае состоит в том, что правовая теория, как неосязаемая и полностью сконструированная учеными материя, оперирует моделями. Впоследствии эти модели могут выливаться в доктринальные теории, которые по истечении времени, законодательно закрепляясь, превращаются в юридические фикции или в реальные юридические явления (например, в нормы доказательства в судебном процессе). Однако при таком качественном переходе модель остается неизменяемой, в то время как реальные социальные и правовые связи в обществе претерпевают некоторые изменения. Таким образом, сама модель и ее юридическое закрепление не соответствуют друг другу, что в терминах Ж. Бодрийяра обозначается термином «гиперреальность»16. То есть существующее положение вещей может легко подменяться концептом/симулякром/моделью, которые не отражают реального положения, что сказывается крайне негативно не только на репутации правовой науки, но и на самом правовом состоянии всего общества.
Такое положение вещей, безусловно, присуще постмодернистскому времени, в котором мы живем. Но в данном случае теряется одно из главных онтологических свойств научного метода моделирования — прогнозирование и приращение нового знания. Данная проблема в области юриспруденции достаточно сложно разрешима в связи с извечной дихотомией права — теоретическая и практическая область. Из-за того, что эти две категории исследователей в большинстве своем рассматривают друг друга как обособленные и разнонаправленные группы, правовая материя не может стабилизироваться и прийти к уравновешенной схеме своего существования, когда теоретические модели, развиваясь в недрах научных лабораторий, продолжают свое опосредованное существование в практически применимой плоскости реальных отношений.
Применение моделей в юриспруденции представляет собой один из важных методологических инструментов познания действительности и приращения нового знания. Однако при использовании рассматриваемого метода важно не только помнить о том, что на каждом этапе исследования следует быть осторожным, дабы не включать в модели субъективные характеристики, даваемые объекту каждым исследователем, но и помнить о том, что модель — это не самоцель исследования, а инструмент улучшения теоретических конструктов, которые нацелены на улучшение правовой системы всего общества и которые не должны подменяться реально существующими объектами правовой реальности.
СТАТ Ь И
Таким образом, фундаментальным условием существования правовых моделей является ее опосредованная связь с практикой правоприменения. Однако необходимо сказать о том, что применение моделей в праве существует в первую очередь для того, чтобы либо прогнозировать правовые решения, либо для правового объяснения. Выше мы уже писали о методе моделирования в качестве гипотетической конструкции, теперь перейдем к правовому объяснению, то есть рассмотрим подход к правовому моделированию как к постфактологическому объяснению в правовой теории. Следует отметить, что такое деление моделирования носит сугубо прикладной характер, для удобства описания методологии. В реальности же, как верно замечает Г. Х. фон Вригт, «элементы объяснения и предсказания сходны, похожи и связывающие их отношения»17, что нельзя не принимать в расчет.
Рассмотрим следующий пример: мы стали очевидцами того, как один человек стреляет в другого из револьвера. Что мы увидели? Почему один человек принял решение о выстреле в другого? Был ли это акт необходимой самообороны или один из участников событий психически нездоров? Считается ли это событие преступлением или может это съемки фильма? То есть нам не до конца понятно, что именно произошло, при рассмотрении только объективной стороны явления, — необходимо различать уровни понимания событий.
Телеологическое объяснение действий обоих участников события не поможет нам с ответом на вопрос «что здесь происходит?». То есть нужно перейти на следующий уровень понимания, потому что намерение к убийству другого человека не всегда ведет к тому, что револьвер выстреливает. Из факта намерения следует лишь то, что один человек намеревается предпринять некоторые действия в отношении другого человека. То есть то, что мы увидели, следует назвать убийством, или обороной, или игрой?
В данном случае не имеет значения то, как мы назовем это событие или классифицируем его, потому что это будет всего лишь вопросом интерпретации, субъективным разрезом объективной реальности18. Но такое «объяснение» не является в полной мере объяснением, это всего лишь наша оценка происходящего. И на основании этой оценки далее вырастают логические умозаключения, порой идущие вразрез с действительностью.
Таким образом, фундаментальным признаком объяснения, предстающим перед нами, является ответ не на вопрос «что это?», а на вопрос «в чем причина этого?». Однако здесь стоит сказать, что, говоря о причинах определенных поступков, необходимо отделять причины того или иного действия, которые предшествуют моменту принятия решения (ad hoc), и причины, которые появляются post hoc, возникающие в нашем разуме после принятия решения, для того чтобы оправдать то или иное решение. То есть говоря о построении моделей в правовой науке, в первую очередь необходимо обратить внимание на теорию объяснения и аргументации в праве. В первую очередь это объясняется тем, что теоретико-правовые изыскания не являются самоцелью, а служат для объяснения правовых тенденций в социуме и поддержания стабильного функционирования правовой науки. Принимая решения, юристы стремятся в первую очередь дать разрешение каким-либо конкретным кейсам — говоря словами Т. Спаака, «предпочитают довольно фрагментарный подход к решению юридических проблем и обычно воздерживаются от защиты общих теорий или иных общих терминов»19. Это разрешение, как правило, имеет определенную аргументацию, но не исследовано достаточно хорошо в силу разрозненности материалов и отсутствия общетеоретического подхода к обоснованию в праве. Так, часто двусмысленная юридическая практика приводит нас к рассмотрению такого специфичного объекта, как юридические рассуждения. Особенно остро эта проблема встает, когда мы говорим о внедрении информационных технологий в право, в том числе искусственного интеллекта для разрешения споров в суде20. В данном случае роль моделирования рассуждений в праве сложно переоценить: для того чтобы обучить машинный разум вынесению суждений, необходимо запрограммировать его, исходя из существующей модели правового обоснования, что на данном этапе развития правовой мысли представляется невозможным, так как системного и единого механизма обоснования существования и применения права до сих пор не разработано. Именно поэтому так важно рассмотреть модели правового обоснования во всех его аспектах.
Так, важным аспектом для рассмотрения моделей правового обоснования является определение природы юридической аргументации, ее методологии, которая в том числе используется для построения моделей в праве: относятся ли правовые выводы к дедуктивным или к индуктивным либо не подпадают ни под одну из этих категорий? Первым ответом на этот вопрос будет утверждение о том, что большинство юридических утверждений дедуктивные, что подразумевает использование аргументации, для определения посылки которой требуются выводы (посылка верная, и вывод, соответственно, верен). В свою очередь индуктивная аргументация также имеет место быть, особенно когда речь заходит о вопросах права, а не факта. Под индуктивной аргументацией в данном случае следует
СТАТ Ь И
понимать тот случай, когда посылка не требует вывода, однако превращает его в более вероятный исход события. Например, сэр Н. Маккормик подчеркивает, что, несмотря на всю важность дедуктивного обоснования в юриспруденции, существуют ситуации, при которых такие аргументы не могут быть использованы. Например, недедуктивные рассуждения должны быть использованы при интерпретациях закона21, что обусловлено столкновением различных аргументаций друг с другом. Так, при конфликте аргументов текстуальных и телеологических, скорее всего, предпочтение правоприменителя будет отдано аргументам первой категории в связи с тем, что они имеют предпочтительную нормативную силу, так как исходят от самого закона, нежели от субъекта правоприменения. Такой процесс выбора различной аргументации не предполагает дедуктивного обоснования, что в свою очередь позволяет нам говорить о существовании индуктивной аргументации в праве.
Однако вынося предположение о том, что выводы являются строго индуктивными или дедуктивными, возникает вопрос: какой природой будет обладать вывод сопоставления различных интерпретационных аргументов одного уровня? Другими словами — к какому типу индуктивных аргументов относится обоснование правопонимания? Это будет полная или неполная индукция? Аргумент по аналогии, или перечислительная индукция, или исключающая? Мы считаем, что в данном случае необходимо скорее говорить о дедуктивном подходе в силу того, что текстуальные выводы наиболее близки по духу к тому, что подразумевало государство, устанавливая ту или иную норму, нежели правоприменительные толкования этой нормы, в том числе телеологические обоснования. Таким образом, используя такой метод моделирования, как правовое обоснование, необходимо отдавать предпочтение дедуктивному методу, нежели индуктивному, что, однако, не исключает их сосуществования в правовой аргументации.
Правовое обоснование является формой научного моделирования в праве, научного рассуждения о том, каким образом существует право и каким образом оно действует, начиная с выбора релевантных для этого факторов, заканчивая обоснованием, почему произошло именно это событие и что явилось тому причиной. Закон по своей сути имеет гораздо более гибкие рамки, нежели, например, правила для игры в шахматы. Именно эта отличительная черта закона и обуславливает важнейшую роль правоприменения, которая, в свою очередь, должна строиться в социуме по определенным правилам, которые иначе можно назвать правовым моделированием. Потому что именно модель дает четкое представление о работающем механизме и о том, каким образом принять решение в сложившейся правовой ситуации. Именно применение такого научного метода, как моделирование, позволит правовой теоретической материи приблизиться к пониманию тех процессов, которые происходят в правоприменительной деятельности, и при помощи научного аппарата выстроить корректное использование гипотетических конструкций, отражающих динамическое состояние правовой материи.
Список литературы Моделирование в праве как способ познания правовых явлений
- Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. 196 с.
- Аристотель. Категории. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. 684 с.
- БодрийярЖ. Символический обмен и смерть. М.:Добросвет, 2000. 387 с.
- ВригтГ. Х. фон. Логико-философские исследования. М.: Прогресс, 1986. 600 с.
- Гладков С. Л. О требованиях к интеллектуальной модели данных. Образовательные ресурсы и технологии, 2015. № 2 (10). С. 63-70.
- Зорькин В. Д. Право в условиях глобальных перемен: монография. М., 2013. 496 с.
- Комментарий к Федеральному закону «О разграничении государственной собственности на землю» (постатейный). Боголюбов С. А., Краюшкина Е. Г., Минина Е. Л. и др. Под ред. Боголюбова С. А. М.: Юстицинформ, 2002. 120 с.
- КуприйВ. Г. Моделирование в биологии и медицине: философский анализ. Л., 1989. 188 с.
- Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская академия правосудия, 2012. 580 с.
- Момотов В. В. Российская правовая система в условиях четвертой промышленной революции. М.: Проспект, 2019. 448 с.
- Нанба С. Б. Право: модели и отклонения. Журнал российского права, 2014. № 6. С. 145-149.
- Правовые модели и реальность. Под общ. ред. Ю. А. Тихомирова, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуденева. М.: Инфра-М, 2014. 280 с.
- Релятивизм в праве. Под общей ред. И. И. Осветимской, Е. Н. Тонкова. СПб.: Алетейя, 2021. 348 с.
- Салыгин Е. Н. Моделирование в праве: проблемы и перспективы. Право. Журнал Высшей школы экономики, 2013. С. 12-35.
- Тихомиров Ю. А. Прогнозы и риски в правовой сфере. Журнал российского права, 2014. № 3 (207). С. 5-16.
- Тихомиров Ю. А. Формула правового воздействия. Журнал российского права, 2020. № 11. С. 5-13.
- MacCormickN. Legal Reasoning and Legal Theory. Revised ed. edition. Oxford: Oxford University Press, 1994. 322 p.
- 21 MacCormick N. Legal Reasoning and Legal Theory. Revised ed. edition. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 65-72.
- SpaakT. Legal philosophy and the study of legal reasoning. Belgrade Law Review, 2021. 69 (4). P. 795-811.