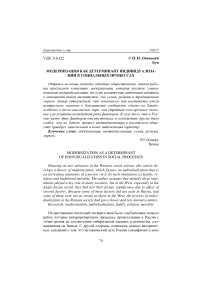Модернизация как детерминант индивидуализации в социальных процессах
Автор: Осинский Павел Иванович
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Опираясь на новые подходы западных обществоведов, данная работа предлагает концепцию модернизации, которая уделяет главное внимание индивидуализации, то есть расширению автономии индивида в отношении таких институтов, как семья, религия и традиционная мораль. Автор утверждает, что изначально эти институты имели центральное значение в большинстве сообществ, однако на Западе, особенно в англо-саксонском мире, они утратили свое прежнее значение в результате воздействия ряда факторов. В силу того, что в России часть этих факторов отсутствовала, а воздействие других было слабее, чем на Западе, процесс индивидуализации в российском обществе приобрел замедленный и менее интенсивный характер.
Модернизация, индивидуализация, семья, религия, мораль
Короткий адрес: https://sciup.org/148317947
IDR: 148317947 | УДК: 316.422
Текст научной статьи Модернизация как детерминант индивидуализации в социальных процессах
На протяжении последней четверти века было опубликовано немало работ, которые интерпретировали процессы, происходящие в России с точки зрения их соответствия либеральным идеалам и ценностям, сложившимся на Западе. С другой стороны, появилось немало авторитетных суждений о том, что исторический путь России специфичен и уни- кален. На наш взгляд, в этом противостоянии либерализма и неотрадиционализма нет ничего удивительного. Это отражение глубинных социальных процессов, происходящих в глобальном масштабе. Данная работа предлагает новое прочтение концепции модернизации, акцентирующее внимание на индивидуализации социальных процессов, которое позволяет по-новому взглянуть на противоречия современного российского общества.
Концепция модернизации имеет долгую и непростую историю. Ее корни уходят к классическим теориям социальных изменений, разработанных К. Марксом и М. Вебером. К. Маркс, как известно, связывал кардинальную трансформацию общества с утверждением промышленного капитализма. М. Вебер утверждал, что развитие самого капитализма связано с распространением протестантизма и новой трудовой этики. Так или иначе, оба мыслителя относили начало модернизации к эпохе нового времени и развитию капиталистических отношений.
В своем современном виде теория модернизации была разработана в 1950–1960-е гг. в трудах американских ученых Д. Аптера, Д. Лернера, А. Инкельса, С. Липсета, Т. Парсонса, У. Ростоу и др. Эта теория рассматривала ускоренный экономический рост, распространение грамотности, расширение среднего класса и демократизацию общества в качестве универсальных тенденций, которые так или иначе свойственны развитию всех стран. Страны Запада показали вектор движения, по которому вполне могут следовать и другие сообщества. Установив рыночную экономику и демократические институты, новые нации, освободившиеся от колониального гнета, имеют все шансы повторить успех более развитых стран.
В 1970–1980-е гг. положения теории модернизации подверглись критике со стороны исследователей-неомарксистов, которые утверждали, что система мировой экономики, отличается глубоким неравенством условий и предпосылок роста, имеет исторически заданный и устойчивый характер и потому изменить сложившийся статус-кво крайне трудно. Столкнувшись с волной критики, совпавшей по времени с замедлением темпов экономического роста в развитых странах и стагнацией во многих развивающихся странах, теория модернизации утратила свою привлекательность среди исследователей и трансформировалась в ряд научных направлений, которые исследовали отдельные аспекты изменений, такие как теория экономического развития, теория демократизации, теория глобальных культурных сдвигов.
Последнее социологическое обобщение теория модернизации получила в трудах английского социолога Э. Гидденса в начале 1990-х гг.
Гидденс отметил, что модернизация делает возможным не только осмысленную, рефлексированную реорганизацию общества и его институтов, но и радикальное изменение жизни самого индивида, его базовых характеристик. Индивид сам выбирает кем быть, сам планирует жизненные события, сам строит свою личную жизнь, которая становится все более автономной от внешних норм. Показательно то, что Гидденс сделал упор на разрыв постепенности в воспроизводстве общества, привносимый модернизационными процессами, которые меняют его облик, делая прежние формы устаревшими [1].
Почему теория модернизации не получила своего дальнейшего развития? Главный недостаток концепции модернизации, на наш взгляд, состоял в том, что основное внимание исследователей сосредотачивалось на изменениях и нововведениях, в то время как традиционным институтам, претерпевающим изменения, уделялось гораздо меньшее внимание. Действительно, зачем их исследовать, если они архаичны, патриархальны и обречены на скорое исчезновение? Современные институты, такие как рынок, новые технологии, демократия, права и свободы личности, представлялись более эффективными, а потому безальтернативными. Начиная с 1990-х гг., большинство западных обществоведов погрузилось в изучение глобального капитализма и глобальной демократии. Единственное разнообразие, которое заслуживало их внимания, - это разнообразие форм самого капитализма.
Мы исходим из того, что теория модернизации сохраняет свой эвристический потенциал, но нуждается в дальнейшей разработке. Данная работа, обобщая новые идеи западных обществоведов, преследует несколько целей. Во-первых, рассмотреть процесс модернизации общества с социологической точки зрения, с учетом, что главный итог данного изменения - процесс индивидуализации. Во-вторых, раскрыть процесс индивидуализации, фокусируя внимание на автономии индивида в отношении таких институтов, как семья, религия и традиционная мораль. В-третьих, продемонстрировать, что индивидуализация - объективный процесс, движимый структурными изменениями социума. В-четвертых, показать, что этот процесс начался задолго до утверждения капитализма и свойственных ему рыночных отношений. В-пятых, подчеркнуть, что процессы модернизации, включая индивидуализацию, представляют собой трансформацию традиционного общества, то есть восстановить тем самым принцип преемственности в развитии общества.
Социологи и политологи, практикующие анализ незападных сообществ, неоднократно указывали на устойчивый характер традиционных институтов. Так, американский социолог М. Шаррад в своей монографии «Государство и права женщин» уделила значительное место ана- лизу традиционных родовых отношений среди арабов Северной Африки. Патриархально-родовые сообщества, основанные на родстве по отцовской линии, занимали в этих сообществах центральное место. Сообщества мужчин, являющихся родственниками по отцовской линии (так называемые агнаты), были его главными структурообразующими элементами. Отцовская линия определяла социальную идентичность каждого человека. Брак же в современном понимании этого слова являлся вторичным институтом. Условия брака оговаривались главами родов, а согласия невесты на вступление в брак не требовалось. Невеста переходила в дом жениха и становилась частью его клана. Согласно нормам шариата, мужчина мог иметь до четырех жен и инициировать развод в любое время, в то время как жены такого права не имели. Стены дома и практика ношения паранджи (хиджаба) за его пределами ограждали женщин клана от окружающего мира [2].
Многое из того, что описывает Шаррад, характеризует устои не только арабских стран. Разумеется, такие институты, как патрилинеар-ность (признание родства только по отцовской линии), полигамия (многоженство) и эндогамия (предпочтение членов своего рода в качестве брачных партнеров) относятся больше к мусульманским сообществам. Однако приоритет рода, патриархальной семьи и родственных связей над всеми другими институтами – чрезвычайно распространенное явление. В той или иной степени это описывает реалии не только в странах Ближнего Востока или, например, Юго-Восточной Азии, но и в некоторых регионах Западной Европы. Еще не так давно патриархальные устои были незыблемы в Южной Италии, Испании, Ирландии и многих других европейских странах.
Таким образом, есть основания полагать, что патриархальная (расширенная) семья, как утверждает известный американский политолог Ф. Фукуяма, это универсальная форма первоначальной организации общества. Именно примат семьи и родственных связей объясняет преобладание коллективистских начал в ряде современных сообществ. Феномен же западного индивидуализма, напротив, уникальное явление, которое утвердилось в ходе исторического развития. Даже в Западной Европе – колыбели индивидуализма и либерализма, изначально преобладала патриархально-родовая форма организации общества [3].
В своем анализе Ф. Фукуяма опирается на идеи французского исследователя античности Н. М. Фюстеля де Куланжа. Исходный пункт анализа Фюстеля де Куланжа – господство патриархальной семьи в Древней Греции и Древнем Риме. Фундаментальный характер этого института проистекал из природы античной религии, которая ставила во главу угла культ предков и семейного алтаря. Религия в то время носила исключительно частный, семейный характер. Каждая семья почитала своих предков. В каждом доме был алтарь, в котором постоянно поддерживался священный огонь, символизировавший неугасимость рода и преемственность поколений. Умершие предки, согласно античным верованиям, могли быть счастливы в потустороннем мире лишь постольку, поскольку они были объектом почитания живущих членов семьи. Поэтому поддержание огня являлось первой обязанностью главы семьи. Каждое утро и каждый вечер домочадцы возносили молитвы священному огню семейного алтаря. Кроме того, у каждой семьи была собственная усыпальница, расположенная неподалеку от дома. Все ритуалы и жертвоприношения носили исключительно частный характер, к ним допускались только члены семьи. Земля, где находились семейный очаг и могилы предков, считалась священной. Ее нельзя было продать или купить. Любое посягательство на эту территорию со стороны посторонних лиц было преступным святотатством, каравшимся смертной казнью [4].
Ослабление родовых связей и усиление роли нуклеарной семьи в Западной Европе связывают с распространением христианства в период поздней античности и раннего средневековья. До этого времени институт расширенной семьи допускал различные формы брачных отношений, которые способствовали бы сохранению собственности внутри рода. С этой целью практиковались браки между кровными родственниками (эндогамия), браки с вдовами умерших братьев (левират), многоженство (полигамия), а также усыновление детей, внебрачное сожительство или развод в случае бесплодия одного из супругов. Христианство объявила войну этим институтам. Где-то раньше, где-то позднее оно узаконило моногамию в качестве единственно легитимной формы брака. Брак стал предполагать согласие обоих супругов, что не всегда требовалось ранее. Кроме того, церковь наделила женщин правом владеть и свободно распоряжаться имуществом, выводя таким образом женщин из-под контроля рода. При этом деятели церкви вряд ли руководствовались идеалистическими соображениями - ведь женщины получили возможность завещать свое имущество церкви, в то время как в прежние времена их имущество оставалось в семье [5]. Последствия не заставили себя ждать. У германцев, норманнов, венгров и западных славян родовые структуры утратили свое значение уже через два-три поколения после принятия ими христианства [3].
Институт семьи на северо-западе Европы, в частности, в Англии, характеризовался некоторыми исследователями большей автономией нуклеарной семьи и меньшей ее зависимостью от родовых структур [6].
Тем не менее сопоставление по времени утверждения нуклеарной семьи в Англии с аналогичными процессами в других регионах Европы не дает основания утверждать о специфическом пути развития семьи по другую сторону Ла-Манша. Как отмечает английский историк Л. Стоун, даже в период позднего средневековья и раннего нового времени (1450–1650 гг.), преобладающим типом семьи, особенно среди английской аристократии, была «открытая семья родственников», внутри которой нуклеарная семья была не более чем неплотным ядром родственных отношений. Характеризуя брачные отношения среди правящего класса, Стоун пишет: «Брачный выбор среди имущих классов в Англии XVI в. был... результатом решения семьи и родственников, а не индивида. При этом внимание обращалось главным образом на родственные связи в прошлом, политический патронаж, расширение родства, сохранение и приумножение богатства. Имущество и власть были главными темами, которые доминировали в брачных переговорах, в то время как самым большим источником страха в обществе, озабоченном соображениями статуса и иерархии, была опасность социального понижения, то есть альянса с семьей низшего ранга или сословия» [7].
Если выделить главный поворотный пункт в процессе индивидуализации, когда институты северо-западной Европы действительно стали отличными от аналогичных институтов в других регионах, включая Средиземноморье и Восточную Европу, то таким поворотным пунктом была, несомненно, Реформация. Протестантизм существенно ослабил влияние традиционных институтов, прежде всего, католической церкви. До XVI в. католическая церковь являла собой институт, монополизировавший регулирование нравственных устоев. Роль священника, принимающего исповеди и отпускающего грехи прихожан, была чрезвычайно велика. Распространение протестантизма с его приматом внутренней религиозности уменьшало роль посредников в диалоге с богом. Протестантский пастор являлся лидером общины и вел богослужение, в остальном же он мало чем отличался от других членов общины [8].
Разумеется, роль религиозной общины и родственных связей варьировалась среди протестантских сообществ. В первых колониях белых поселенцев Северной Америки в силу их изолированности, непривычных природно-климатических условий и постоянной угрозы со стороны индейских племен роль этих институтов была более значима, чем в Европе. В Новой Англии, например, община поселенцев контролировала весь спектр экономических, политических, нравственных и брачносемейных отношений ее членов. Автономия нуклеарной семьи внутри общины была весьма относительной. Соседи, близкие и дальние родственники постоянно, так или иначе, вмешивались в жизнь семьи. Прегрешения против норм общины строго наказывались. Пуританин принадлежал не себе, а своей семье и своей общине [9].
Рассмотрим традиционные институты Северной Америки подробнее. Как считает социолог Р. Белла, американская культура изначально зиждилась на трех компонентах: библейских нравственных заветах, республиканском политическом устройстве и психологии индивидуализма. Тем не менее в XIX в. и особенно в начале XX в. значение библейского компонента стало заметно ослабевать, в то время как значение индивидуализма стало усиливаться. Происходило это в силу причин, которые имели место и в других странах Запада, а именно в силу развития промышленного капитализма, ускоренной урбанизации и широкомасштабной миграции населения. Переселяясь в новые регионы и переезжая в быстро растущие города, мигранты, люди в основном молодые и энергичные, выходили из-под контроля семьи и традиционной общины и стремились к индивидуальному успеху, понимая его в первую очередь как обогащение и удовлетворение личных потребностей. Пуританская культура уступала место культуре массового потребления [10].
В первой половине XX в. институт семьи и семейные ценности продолжали доминировать среди американского среднего класса. Более того, 1950-е гг., принесшие послевоенной Америке небывалое благоденствие, укоренились в массовом сознании в качестве «золотого века» нуклеарной семьи. Высокие заработки позволяли главе семьи покрывать все семейные расходы, освобождая супругу для ухода за домом и детьми. Образ традиционной американской семьи, состоящей из добытчика-отца, домохозяйки-матери и двух детей школьного возраста, был увековечен в таких популярных телесериалах как «Ozzie and Harriet» и «Leave it to Beaver» [11].
Ситуация стала меняться в конце 1950-х и начале 1960-х гг. К этому времени послевоенный бум закончился, рост реальных доходов на душу населения замедлился. В то же время расширение спроса на квалифицированную рабочую силу в сфере услуг и области умственного труда открыло возможности для роста занятости среди женщин, что в свою очередь способствовало их большей финансовой и социальной независимости. Распространение средств контроля за рождаемостью позволяло регулировать процессы воспроизводства, освобождая время для профессиональной деятельности. Развод стал более доступен, а его процедура существенно упростилась.
Постепенно утвердилось понимание того, что индивид сам вправе распоряжаться своей жизнью. Именно в это время сложилась практика, когда закончившие школу дети стали покидать родительский дом и уезжать учиться в колледж или университет. Выбор специальности и профессии стал само собой разумеющимся делом индивидуального предпочтения. Столь же автономным стал и выбор брачного партнера. Но одновременно с этим происходило и ослабление внутрисемейных связей. Отъезд членов семьи в другие регионы и обретение ими материальной независимости не могли не сказаться на прочности семейных уз. Новый круг друзей и знакомых, новые интересы и образ жизни отдаляли членов семьи друг от друга.
Все это означало также и ослабление роли традиционной морали. В восприятии молодого поколения, прежде всего, студенчества, сексуальные отношения перестали быть атрибутом брачных отношений. Они стал самоцелью и самоценностью сами по себе. Брак же стал формой регулирования сексуальных отношений, который мог быть отложен и на более поздний срок. Точнее, одной из форм. Ведь если допустить, что секс интересен сам по себе, а не как элемент процесса воспроизводства, то логично допустить многообразие форм удовлетворения сексуальных потребностей, включая как долговременные отношения, так и кратковременные связи, отношения с одним партнером и отношения со множественными партнерами, традиционные гетеросексуальные отношения и нетрадиционные гомосексуальные связи.
В конце XX в. процесс высвобождения индивида из-под контроля традиционных институтов и традиционной морали принял ускоренный характер. Отделение сферы сексуальности от процесса воспроизводства, принятие частью общества допустимости сексуальных связей не только до брака, но и вне брака, нормализация выбора гендерной идентичности, легализация однополых браков привели в совокупности к тому, что американские социологи называют «деинституализацией семьи» [12]. Семья как основной инструмент социального контроля в значительной степени перестала выполнять прежние регулятивные функции. В еще большей мере утратила свою роль религия. Главным нормативным регулятором стал закон, а господствующая на Западе модель права защищает, как известно, неотъемлемые права и свободы индивида.
Подведем итоги. Господство патриархально-родовых отношений не является специфическим атрибутом незападных сообществ. Эти институты существовали и в Западной Европе, однако утратили свое влияние в эпоху средневековья. Вопреки ранним теориям модернизации, про- цесс индивидуализации начался на Западе задолго до утверждения капитализма. Изначально этот процесс был связан с распространением христианства, разложением родовых структур и институализацией «малой», то есть нуклеарной семьи [13]. Распространение протестантизма ослабило регулирующую роль церкви, а фундаментальные сдвиги нового времени, связанные с процессами индустриализации и урбанизации, трансформировали институт нуклеарной семьи. Структурные изменения в сфере занятости и в области образования освободили женщин и молодежь из-под контроля традиционных институтов. «Расцепка» сексуальных отношений и процесса воспроизводства способствовала утверждению плюрализма в сфере сексуальных отношений и последующей легализации их нетрадиционных форм. Ныне распространение и утверждение идеологии индивидуализма, понимаемой в качестве свободы от традиционных институтов и традиционной морали, приобретает глобальный и, судя по всему, необратимый характер.
Почему же институты и нормы современного российского общества оказались столь отличными от институтов и норм западного общества? Суть дела заключается в том, что исторические процессы в России не испытали воздействия многих структурных факторов, которые присутствовали на Западе. В России православная церковь не пользовалась таким влиянием на общество, как католическая церковь на Западе, и не смогла искоренить патриархально-родовые институты. Как неоднократно отмечалось в литературе, российское общество не испытало воздействия реформированного христианства с его акцентом на индивидуальную религиозность. В эпоху петровских реформ православная церковь оказалась подчинена государству, что минимизировало ее и без того слабую регулятивную функцию. Капиталистические отношения, способствующие социальному расслоению и фрагментации общества, слабо затронули патриархальный мир российской деревни, где проживала большая часть населения [14].
Все изменилось в 20 столетии. Для России этот век ознаменовался драматическими процессами «взрывной», «догоняющей» модернизации, осуществляемой централизованным, бюрократическим государством. Ускоренная экономическая модернизация сопровождалась массовыми социальными сдвигами. Старые элиты были устранены, возникли новые социальные группы, миграционные процессы затронули миллионы людей. Новая универсальная идеология заменила собой традиционные воззрения и верования. Тем не менее социальные катаклизмы советской эпохи не поколебали центральную роль такого института, как семья. Безусловно, роль нуклеарной семьи стала гораздо более значимой, нежели роль расширенной семьи. Занятость женщин стала по- всеместным явлением. Упростился и стал доступным развод. Но низкий уровень реальных доходов населения, неразвитость рынка труда и жилья препятствовали распространению отношений, выходящих за рамки коллективных форм поведения. Политико-идеологические институты контролировали соблюдение норм социалистической морали и воздействовали на нарушителей этих норм. По сути дела, государственный социализм «заморозил» сложившиеся институты семьи и семейной морали, в то время как политическая система стала гарантом их воспроизводства.
Примечательно то, что идеология традиционализма пережила государственный социализм. Распространение либеральных институтов и ценностей в 1980–1990-е гг. пошатнуло идеологию традиционализма, но не разрушило ее. В посткоммунистической России она стала возрождаться уже в середине 1990-х гг., изначально в культурной сфере. Еще недавно проклинаемое советское прошлое вернулось в форме культурной ностальгии. Население с энтузиазмом встречало вновь вернувшиеся на телеэкраны фильмы советской эпохи и «старые песни о главном». В то же время радикальные экономические реформы и вызванный ими трансформационный кризис дискредитировали либеральные ценности. Политические лидеры уловили смену настроений общества и переориентировались на возрожденную идеологию традиционализма, тем более, что эта идеология соответствовала их личным воззрениям. Утрата прежнего государственного патронажа обрекла немногочисленных сторонников либерализма на политическое небытие.
В настоящее время консервативный неотрадиционализм с его приоритетом санкционированных государством коллективных ценностей над индивидуальными правами и свободами личности фактически стал официальной идеологией российского государства. Именно идеология неотрадиционализма стала консолидирующей силой, позволившей впервые за долгое время объединить общество и властные институты. Институт семьи наряду с институтом государства занял центральное место в иерархии ценностей. Причем речь идет не только о нуклеарной, но и о расширенной семье, включающей представителей ряда поколений, в том числе и тех, кого нет в живых. Акция «Бессмертный полк» во время празднование 70-летия Победы стала наглядным примером синтеза государственного и семейного начал в ритуале коллективного поминовения.
Следует обратить внимание на ряд моментов, которые указывают на то, что процесс индивидуализации все же происходит в недрах российского общества.
Во-первых, развитие рыночных отношений трансформирует психологию людей в направлении индивидуальной рациональности. Вместо слепого (как прежде) следования коллективным интересам люди все более часто задаются вопросом, насколько соответствуют эти интересы их личным запросам. Все больше людей располагает ресурсами, позволяющими «купить» относительную автономию от общества, будь то свой бизнес, индивидуальный дом, автомобиль и т.д. Во-вторых, индивидуализация стратегии материального успеха и сопутствующее ей расслоение общества привели к дальнейшему ослаблению института расширенной семьи. Кто-то из родственников разбогател, кто-то обеднел, кто-то уехал в другой город или эмигрировал за границу. Многие стремятся поддерживать отношения с близкими родственниками, однако связь с дальними родственниками постепенно ослабевает. В-третьих, доступность Интернета, мобильных средств коммуникации и социальных сетей способствует распространению все более автономных форм жизнедеятельности. Многие товары и услуги ныне можно приобрести онлайн, не выходя из дома. Поисковые системы позволяют найти любую информацию и ответить на любой возникающий вопрос, не прибегая к помощи окружающих. Мобильные средства связи позволяют общаться автономно от других членов семьи.
Таким образом, на микроуровне процессы индивидуализации все же происходят. Насколько устойчивы эти тенденции и каковы будут их социальные последствия, покажет время.
Список литературы Модернизация как детерминант индивидуализации в социальных процессах
- Giddens A. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.
- Charrad M. States and Women 's Rights: the making of postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. Berkeley, CA: University of California Press, 2001.
- Fukuyama F. The Origins of Political Order: from Prehumаn Times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- Fustel de Coulanges N. D. The Ancient city: a Study of the Religion, Laws, and Institutions of Greece and Rome. Mineola, New York: Dover, 2006.
- Goody J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.