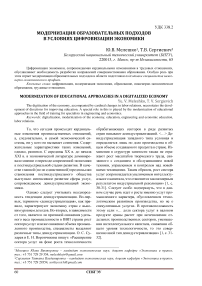Модернизация образовательных подходов в условиях цифровизации экономики
Автор: Мелешко Юлия Викторовна, Сергиевич Татьяна Владимировна
Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps
Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цифровизация экономики, сопровождаемая кардинальными изменениями в трудовых отношениях, обуславливает необходимость разработки направлений совершенствования образования. Особую роль при этом играет модернизация образовательных подходов в области подготовки подготовке специалистов инженерно-экономического профиля.
Цифровизация, модернизация экономики, образование, инженерно-экономическое образование, трудовые отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/148319926
IDR: 148319926 | УДК: 338.2
Текст научной статьи Модернизация образовательных подходов в условиях цифровизации экономики
То, что сегодня происходят кардинальные изменения производственных отношений, а, следовательно, и самой экономической системы, ни у кого не вызывает сомнения. Содержательные характеристики таких изменений, однако, разнятся. С середины ХХ в. до начала XXI в. в экономической литературе доминировало мнение о переходе современной экономики к постиндустриальной стадии развития. В качестве главной (но не единственной) предпосылки становления постиндустриального общества выступало интенсивное развитие сферы услуг, сопровождаемое деиндустриализацией экономики.
Однако следует учитывать неоднородность тенденции деиндустриализации. Во-первых, термином «деиндустриализация», как правило, характеризуют экономику стран с высоким уровнем доходов. Во-вторых, в зависимости от того, является ли причиной снижения удельного веса промышленности в ВВП страны рост сектора услуг или же снижение объема промышленного производства, специалисты выделяют различные типы деиндустриализации. О. С. Сухарев и Е. Н. Ворончихина пишут: «Расширение сектора услуг на фоне роста технологичности обрабатывающих секторов в ряде развитых стран называют деиндустриализацией. <…> Деиндустриализация западного типа условная и определяется лишь по доле производства в общем объеме создаваемого продукта в стране. Изменения в структуре занятости также не отражают рост масштабов творческого труда, связанного с созданием и обслуживанием новой техники, управлением и контролем над новейшими технециями. Таким образом, рост сектора услуг сопровождается увеличением интеллектуального капитала, что становится закономерным результатом индустриальной революции» [1, с. 30-31]. Следует особо подчеркнуть, что в данном случае речь идет о росте именно услуг промышленного характера, обусловленном технологическим развитием производства, но не о спекулятивных услугах. В противоположность этому если «… доля сектора услуг в валовом продукте сраны растет при исчезновении отдельных производственных секторов, уменьшении интеллектуального капитала, снижении общего уровня технологичности, то это совершенно иной тип деиндустсриализации» [1, с. 3132].
Таким образом, для оценки причин и последствий такого экономического феномена как «деиндустриализация» необходимо учитывать также изменения, происходящие внутри секторов экономики, и взаимосвязь между ними. Индивидуализация и повышение технологического уровня промышленного производства предопределяет вовлечение в производственный процесс все большего количества и все более разнообразных услуг промышленного характера, под которыми понимается хозяйственное благо в форме действия, обеспечивающее создание, развитие и функционирование технологий, связанных с разработкой, производством, реализацией и сервисным обслуживанием промышленной продукции [2]. Сегодня практически все виды промышленного производства зависимы от услуг промышленного характера, благодаря которым организуется эффективное производство нового типа («умные заводы») и реализуется клиентоориентированная (в широком смысле) политика предприятия. В случае, если сокращение доли промышленного производства в ВВП страны происходит на фоне роста услуг промышленного характера, то это свидетельствует о формировании нового типа производства (Индустрии 4.0), а не о деиндустриализации.
Критикуя сторонников концепции постиндустриального общества, С. Ю. Солодовников подчеркивает: «У апологетов постиндустриальной социальной парадигмы обнаруживаются следующие методологические просчеты: игнорирование исторического опыта, а именно опыта развития стран со сверхиндустриальной экономикой, и отождествление частного и общего, т. е. феноменологические особенности стран с сервисной экономикой возводятся в разряд всеобщих онтологических закономерностей» [3, с. 34]. В экономической литературе указываются самые разнообразные предпосылки и последствия современной модернизации промышленности. Приверженцы теорий технологической детерминации в качестве основной предпосылки указывают появление новых технологий: нанотехнологии, биоинженерия, информационно-коммуникационные технологии в шестом технологическом укладе – в рамках теории технологических укладов С. Ю. Глазьева [4]; аддитивные технологии, большие данные, интернет вещей в четвертой промышленной революции – в рамках теории промышленных революций К. Шваба. Однако практически все исследователи сходятся во мнении, что ключевыми технологиями, кардинально трансформирующими современное промышленное производство, являются информационно-коммуникационные технологии. Речь идет не просто о компьютеризации производства, а об его интеллектуализации: «Цифровая трансформация экономики выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем, интеграции информационных и операционных технологий» [5 , c.17].
Ведущая роль в процессе цифровизации отводится Интернету, позволяющему объединить различные стадии производства единой информационной сетью. С. Грингард указывает на это: «Подключенные друг к другу устройства существовали со времен появления первых компьютерных сетей и бытовой электроники. Однако пока не появился Интернет, никому не приходило в голову, что связь может быть глобальной» [6, c. 12.]. Такие технико-технологические возможности увеличивают потенциал развития не только промышленности, но и сферы государственного управления экономикой и социальной сферой, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения. Ученые отмечают, что «эффективное использование возможностей новых технологий и внедрение инновационных пользовательских инструментов создает платформу для: улучшения телекоммуникационной инфраструктуры, создающей основу для предоставления новых сервисов услуг населению, деятельности локального бизнеса и государственных учреждений; подключения к социальной активности и активности бизнеса удаленных регионов, населения, деятельности локального бизнеса и государственных учреждений; выполнения эффективности государственного управления экономикой и социальной сферой, деятельности локального бизнеса и госучреждений; ускорения информационного обмена, распространения сервисов и появления новых форм коммуникаций населения и предприятий между собой, с иностранными партнерами, органами власти, образовательными и медицинскими учреждениями (например, ebusiness, e-goverment, e-education, e-banking, ecommerce, e-health)» [7, с. 122–123.]
Кибер-физические производственные системы становятся основой для создания умных заводов, которые «в сочетании с умной мобильностью, умной логистикой и умной сетью энергоснабжения» являются «важнейшей составляющей будущей умной инфраструктуры» [8 , S. 23]. Технологической основной кибер-физических систем являются такие технологии четвертой промышленной революции, как Интернет вещей («представляющий собой концепцию вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, является одной из основных технологий четвертой промышленной революции» [9]), облачные вычисления и хранения данных, сенсоры и автоматическая идентификация, роботы и автоматизация, носимая электроника и мобильные технологии, 3D-печать, автоматизированные транспортные средства и дроны и т.д.
На «умном заводе» производственное и складское оборудование без участия человека обменивается информацией, инициирует действия и контролирует друг друга. «Умные продукты» идентифицируются и локализуются в любое время, что позволяет получить информацию об истории, текущем состоянии и направлении их движения. Вся производственная система вертикально взаимосвязана с бизнес-про-цессами и производственными сетями в режиме реального времени от заказа до конечного потребителя. Вокруг «умной фабрики» и жизненного цикла «умного продукта» формируются кибер-физические производственные системы, объединяющие людей, объекты и системы с их услугами и приложениями. «Благодаря организации производства на основе кибер-физических производственных систем становится возможным: – индивидуализация продукции и переход к мелкосерийному производству при сохранении (или повышении) рентабельности; – флексибилизация производства; – оптимизированное принятие решений; – производительность и эффективность ресурсов; – создание добавленной стоимости с помощью новых услуг; – организация занятости с учетом демографических особенностей; – сбалансированность трудовой жизни; – высокий уровень добавленной стоимости» [10, с. 90], – отмечалось нами ранее.
Формирование производства нового типа – «умного» производства, в рамках которого устанавливается постоянное взаимодействие человека, машин и ресурсов, – влечет за собой соответствующие изменения и в трудовых отношениях. Разрабатывая концепцию национальной программы промышленного развития «Индустрия 4.0», немецкие специалисты подчеркивают изменения социальной инфраструктуры в сфере занятости, обусловленные активной «интеракцией человека и техники». «В центре будущей системы умного производства стоит человек, и техника должна способствовать его когнитивной и физической работоспособности путем установления баланса между помощью и требованиями, в особенности в отношении индустриальных систем управления, кооперации человека и техники, а также в отношении аспекта квалификации» [8, S.18]. Производство становится более занятоориентированным, что выражается, в том числе, в изменении внешнего вида рабочего места и трудового режима, организация которых все в большей степени обуславливается индивидуальными потребностями работников (здравоохранение, комфорт, возможность дальнейшего обучения и т.д.). Развивается самозанятость, виртуальная мобильность, гибкие формы занятости. Все большее распространение получает тенденция дестандартизации труда, непостоянного найма. Изменяется традиционное представление о рабочем времени и месте.
На наш взгляд, такие изменения связаны, в первую очередь, с изменениями потребностей производства. В условиях гибкого и все более зависящего от ситуации производства возрастает спрос на квалифицированных работников, обладающих междисциплинарными компетенциями. «Работа в постоянно меняющейся среде со все более усложняющимися инструментами и системами управления ведет к чрезвычайно высоким требованиям к способностям, знаниям задействованных производственных ресурсов, а также к трудоспособности работников» [8, S.100]. А углубляющаяся автоматизация способствует тому, что «работник может сфокусироваться на креативной, создающей добавленную стоимость деятельности» [8, S. 25]. Это обуславливает и возрастание значения образования (как с точки зрения подготовки кадров, так и получения последующего образования на протяжении всей жизни) и взаимодействия с университетами.
Акцентируя внимание на формировании «новой социальной инфраструктуры» и изменении характера труда в Индустрии 4.0 от рутинного к творческому, ученые все же отмечают, что «внедрение и расширение современных систем взаимодействия человека с технологией, по всей вероятности, приведет к значительным изменениям в будущей промышленной работе, которые пока не могут быть спрогнозированы с точки зрения их масштабов и последствий для производственной деятельности и деятельности в сфере услуг промышленного характера» [8, S.25]. Вместе с тем тенденция интеллектуализации труда не вызывает дискуссий в научном сообществе. «В результате появления высокоэффективных инновационных технических средств происходит трансформация рабочего процесса, усиливается роль и значимость человеческого капитала и интеллектуального труда. Информационные технологии замещают рутинную, повторяющуюся, однотипную работу и обогащают работу, требующую анализа, решений и способностей человеческого мозга, – отмечает по этому поводу Т. В. Кузьмицкая. – Тей-лористский сборочный конвейер в ведущих странах глобальной сетевой экономики постепенно превращается в исторический реликт, оставаясь реальностью для миллионов рабочих в индустриальных странах» [11, с. 30].
Происходящие изменения трудовых отношений все в большей степени находят отражение в проводимой промышленной и структурной политике государства. «Структурные сдвиги в экономике в существенной степени определяются изменениями в человеческом капитале, составом доступных компетенций, при этом структура человеческого капитала может не только ограничивать возможные сдвиги, но и, напротив, инициировать структурные изменения в экономике. Как следствие, усиливается внимание государств к структурной политике, ориентированной на создание новых долгосрочных преимуществ, при этом на смену (или в дополнение к) выделению секторальных приоритетов приходит поддержка не конкурентных производителей, а ключевых компетенций работников и развитие человеческого капитала (Kaplinsky et al., 2012)» [12, c. 12], – отмечается в докладе НИУ ВШЭ. Образовательная политика также требует соответствующих изменений.
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, «появление в мире новых рисков, вызовов и угроз, обострение глобальных проблем, насущные потребности по обеспечению устойчивого развития в Беларуси, объективно потребовали поиска новых подходов к обеспечению национальной безопасности. Мировая экономика активно трансформируется и характеризуется повышением неустойчивости, переходом к новым технологическим укладам, становление и рост которых будет определять экономическую динамику в ближайшие десятилетия» [13]. Для обеспечения устойчивой конкурентоспособности предприятий в условиях постоянно меняющихся тенденций технико-технологического развития, сложного информационного пространства, нестабильности внешней среды требуется подготовка специалистов, обладающих широкими инженерными и экономическими компетенциями.
Современные инженеры-экономисты должны обладать экономическими, производственно-технологическими, правовыми, организационно-управленческими, информационноаналитическими и научно-инновационными компетенциями. Это обуславливает необходимость пересмотра концептуальных подходов и адаптации существующих образовательных программ подготовки специалистов в области инженерно-экономического образования к современным запросам реального сектора экономики.
Специальность «инженер-экономист» в Беларуси можно получить в таких вузах как Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский государственный университет транспорта, Витебский государственный технологический университет и некоторых других.
Белорусский национальный технический университет является признанным лидером в подготовке специалистов инженерно-экономического профиля в Республике Беларусь. В частности, на автотракторном факультете ведется подготовка инженеров-экономистов в области транспортной и других видов логистики, на энергетическом факультете – инженеров-экономистов в области энергетики. Машиностроительный факультет осуществляет подготовку инженеров-экономистов по таким специализациям, как «Экономика машиностроительного предприятия», «Организация использования производственных ресурсов в машиностроении (контроллинг)», «Организация и оперативное управление производством (производственная логистика)», «Экономика машиностроительного предприятия (инженерная экономика)» [14]. Получить квалификацию инженер-экономист в области строительства можно на строительном факультете, в сфере приборостроения – на приборостроительном.
По данным специальностям ведется подготовка студентов, обладающих инженерными и экономическими знаниями. Учебные планы предусматривают глубокое изучение экономики и статистики предприятия, организации производства, основ управления интеллектуальной собственностью, финансов предприятия, менеджмента и маркетинга, бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности, инвестиционного проектирования, международной экономики и внешнеэкономической деятельности и др. Будущие инженеры-экономисты также изучают дисциплины инженерного блока: высшую математику, физику, начертательную геометрию, инженерную графику, материаловедение, техническую механику, информатику и программирование, основы энергосбережения, управление качеством и сертификацию продукции, теплотехнические и электротехнические дисциплины, ряд других дисциплин экономического и инженерного профиля.
Востребованность специалистов инженерно-экономического профиля подтверждается ежегодным 100-процентным распределением выпускников бюджетной формы обучения. Ученые и инженеры-экономисты стоят на передовой модернизации экономики Беларуси. «Развитие технологий определяется рядом закономерностей, важнейшей из которых является "эффект колеи", поэтому новая индустриализация Беларуси не может быть ничем иным как продуктом практического опыта работы всей индустриальной системы республики и ее инженерно-конструкторского персонала. Сохранение индустриального облика экономики республики и рост ее кадрового потенциала – необходимое условие участия Беларуси в международной технологической кооперации» [15, с. 162]. В инженерах-экономистах нуждаются все отрасли национальной экономики, поскольку такие специалисты обладают уникальными междисциплинарными знаниями и компетенциями.
Список литературы Модернизация образовательных подходов в условиях цифровизации экономики
- Сухарев О.С., Ворончихина Е.Н. Факторы экономического роста: эмпирический анализ индустриализации и инвестиций в технологическое обновление // Вопросы экономики. 2018. №6. С. 29-47.
- Мелешко Ю.В. Системообразующие принципы развития услуг промышленного характера // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, г. Пинск, 21 апреля 2017 г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]. Пинск: ПолесГУ, 2017. С. 84-86.
- Cолодовников С.Ю. Экономика рисков // Экономическая наука сегодня: сб. науч. ст. / БНТУ. Минск, 2018. Вып. 8. C. 16-55.
- Глазьев С.Ю. Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века [Электронный ресурс] / ГлазьевРУ: http://www.glazev.ru /articles/6- jekonomika/54923-velikaja- tsifrovaja- revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka (дата обращения 15.11.2018).
- Идрисов Г.И., Княгинин В.Н., Кудрин А.Л., Рожкова Е.С. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России // Вопросы экономики. 2018. №4. С. 5-25.