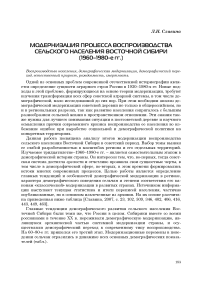Модернизация процесса воспроизводства сельского населения Восточной Сибири (1960-1980-е гг.)
Автор: Славина Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: История и этнография
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются основные тенденции и результаты демографической модернизации населения Восточно-Сибирской деревни в советский период. Все региональные процессы рассмотрены в общероссийском контексте. Исследование базируется на материалах переписей населения и текущей демографической и социальной статистике.
Воспроизводство населения, демографическая модернизация, демографический переход, естественный прирост, рождаемость, смертность
Короткий адрес: https://sciup.org/144153052
IDR: 144153052
Текст научной статьи Модернизация процесса воспроизводства сельского населения Восточной Сибири (1960-1980-е гг.)
Одной из основных проблем современной отечественной историографии является определение сущности аграрного строя России в 1930–1980-х гг. Новые подходы к этой проблеме, формирующиеся на основе теории модернизации, требуют изучения трансформации всех сфер советской аграрной системы, в том числе демографической, мало исследованной до сих пор. При этом необходим анализ демографической модернизации советской деревни не только в общероссийском, но и в региональных разрезах, так как развитие населения сопрягалось с большим разнообразием сельской жизни в пространственном отношении. Эти знания также нужны для лучшего понимания ситуации в постсоветской деревне и научного осмысления причин современного кризиса воспроизводства ее населения во избежание ошибок при выработке социальной и демографической политики на конкретных территориях.
Данная работа посвящена анализу итогов модернизации воспроизводства сельского населения Восточной Сибири в советский период. Выбор темы вызван ее слабой разработанностью в масштабах региона и его отдельных территорий. Изучаемое тридцатилетие–1960–1980-е гг. – является самостоятельным этапом в демографической истории страны. Он интересен тем, что, во-первых, тогда советская система достигла зрелости и отчетливо проявила свои сущностные черты, в том числе в демографической сфере, во-вторых, в этом времени формировались истоки многих современных процессов. Целью работы является определение главных тенденций и особенностей демографической модернизации в регионе, характера демографического поведения сельчан и степени соответствия его канонам «классической» модернизации в развитых странах. Источником информации выступают текущая статистика и итоги переписей населения, частично опубликованные, но в основном извлеченные из архивов. На их основе рассчитана приведенная ниже таблица [Славина, 2007, с. 23, 102, 309, 346, 402, 406, 416, 443, 449, 463].
Главные тенденции демографического развития сельского населения Восточной Сибири были теми же, что России в целом. Сибиряки вместе со всеми россиянами в течение ХХ в. переживали демографическую модернизацию, являвшуюся органической частью системной модернизации страны, и осуществляли демографический переход к современному типу воспроизводства. На 60–80-е гг. пришелся его третий этап. Модернизационные перемены в поведении сельчан отразились в динамике всех основных демографических показателей (табл.).
Таблица
Основные характеристики демографической модернизации сельского населения Восточной Сибири и России
Самым ярким проявлением демографической модернизации в первой половине ХХ в. было огромное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в результате снижения смертности, прежде всего младенческой. В деревнях Сибири она выросла с конца 20-х до конца 50-х гг. более чем на 28 лет [Славина, 2007, с. 409]. Но в 60-х гг. этот процесс затормозился и продолжительность жизни практически перестала расти. За последние 30 лет советской эпохи она стала в восточносибирских деревнях лишь на 1,5 года длиннее у женщин, но на 2 года короче у мужчин (в селах России – соответственно на 2,6 и 1,2 года). Причиной ее стагнации был кризис модернизации процесса смертности, начавшийся в 60-х гг. и продолжавшийся весь изучаемый период. Он охватил всю Россию, но в восточносибирских деревнях его признаки проявлялись ярче.
Первым признаком кризиса смертности стал подъем ее общего уровня в основном за счет роста в трудоспособных возрастах. Это событие, оцененное на Западе как свидетельство кризиса советской системы в самом ее основании, превратилось в проблему всей страны. В восточносибирской деревне в 80 г. умирали по 8,2 чел. из тысячи жителей рабочего возраста против 7,1 чел. по селам РСФСР, в 90–91 гг. – соответственно по 7,0 и 6,2 чел. [Численность…, 1992, с. 275, 280].
Структура причин смертности детей и взрослых перестраивалась медленно и в основном оставалась архаичной. В соответствии с законом модернизации росла доля смертей от эндогенных (сердечно-сосудистых, онкологических и т. п.) заболе- 184
ваний, но сибиряки умирали от них реже, чем среднестатистические россияне, а чаще погибали от экзогенных причин. Внешние воздействия (насильственные смерти и несчастные случаи) у них занимали второе (а не третье, как в РСФСР) место среди причин смерти, и их показатель был самым большим в республике. Оставалась слишком высокой смертность от болезней экзогенной этиологии (инфекций и т. п.), в принципе излечимых. Не были выработаны эффективные меры борьбы с эндогенной смертностью. Задача оттеснения момента ухода из жизни в более поздний возраст решалась плохо, что оборачивалось преждевременными людскими потерями. Среднее число недожитых лет до верхней границы трудоспособного возраста составляло в селах региона в 88–89 гг. 7,49 лет у мужчин и 2,67 года у женщин (по селам РСФСР – 6,39 и 2,11 года) [Соболева, 1991, с. 22].
Тенденции развития младенческой смертности тоже плохо вписывались в стандарты модернизации. Она снижалась медленно и неустойчиво. За три десятилетия ее коэффициент сократился в деревнях Восточной Сибири менее чем на треть, тогда как в целом в селах РСФСР – в 2 раза. В рубеже 80–90-х гг. младенческая смертность у сибиряков почти на четверть превышала среднероссийский уровень. Структура ее причин была «несовременной»: оставался очень высоким процент погибавших от экзогенных факторов, а доля мертворожденных и умерших в первую неделю жизни (от врожденных пороков и т. п.) возросла во много раз из-за ухудшения здоровья матерей.
К началу 90-х гг. процесс модернизации смертности в восточносибирской деревне был далек от завершения. Все ее показатели не просто были хуже среднероссийских, в большинстве они являлись «рекордными» на фоне тех же показателей в остальных экономических районах РСФСР, и, как следствие, продолжительность жизни в регионе была самой короткой в России.
Рождаемость, второй компонент воспроизводства населения, трансформировалась по законам модернизации – в первой половине ХХ в. шло ее снижение. Но в конце 50-х гг. она оставалась в деревнях Восточной Сибири еще весьма высокой. Коэффициент суммарной рождаемости (среднее число рождений на одну женщину) в 58–59 гг. там составлял 3,956 (3,379 по селам РСФСР) и обеспечивал замещение поколений почти на 200 %.
В 60–80-х гг. глобальных перемен в процессе рождаемости не происходило, в основном сохранялась прежняя тенденция ее снижения. Репродуктивный процесс испытывал противоречивое влияние изменений семьи как института воспроизводства поколений и эгалитаризации брачно-семейных отношений в целом. Положительно влияла на рождаемость сохранявшаяся в селах Восточной Сибири до конца советской эпохи всеобщая и ранняя брачность. Средний возраст вступления в первый брак там был таким, как 100 лет назад или как в отсталых развивающихся странах. Несмотря на рост разводов и овдовений, уровень брачности у женщин повышался благодаря повторным бракам, у мужчин все время сохранялась сверхбрачность. В деревнях региона уровень брачности мужчин был ниже среднероссийского, женщин – намного выше. В матримониальном поведении сибиряков традиционные черты (ранняя всеобщая брачность) сочетались с ультрасовременными – рекордным распространением фактических браков и сожительств. Удельный вес незарегистрированных брачных пар в деревнях региона в начале 90-х гг. был равен 13,8 % против 8,8 % в селах РСФСР [Состояние…, 1995, с. 44, 49].
Ценности семейного образа жизни у сибиряков не девальвировались, доля живших в семьях сельчан (более 91 %) в регионе за 30 лет не сократилась, но внутрисемейные отношения и облик семей менялись. В этом проявлялся не кризис семьи, а ее модернизация, смысл которой заключался в завершении разрушения традиционных многодетных и многопоколенных крестьянских семей и утверждении господства малодетной нуклеарной (двухпоколенной) семьи. Сельская семья в регионе, состоявшая в 1959 г. в среднем из 4,0 чел. и имевшая уже современный облик, к 1989 г. еще уменьшилась до 3,5 чел. Она была крупнее, чем средняя сельская семья России (3,8 и 3,3 чел. соответственно в 1959 и 1989 гг.). В регионе чаще встречались семьи из 5 и более членов, реже – бездетные (37,8 против 45,7 % в 1989 г.), а среди семей с детьми троих и более детей имели в 1989 г. в деревнях региона 27,4 %, России – 19,4. В модернизации семейных отношений сельчане-сибиряки преуспевали. Доля нуклеарных и смешанных в социальном и национальном отношении семей у них стала выше, чем в городах региона и в сельской местности России.
Динамика процесса рождаемости в селах Восточной Сибири не была однонаправленной. Ее снижение четко проявилось в 60-х и в конце 80 – начале 90-х гг., а в середине периода спады чередовались с подъемами. В результате уровень рождаемости, выраженный суммарным коэффициентом, всегда был у сибиряков значительно выше среднего по сельской местности России, медленнее снижался (за 30 лет соответственно на 28 и 48 %) и до конца советского периода обеспечивал расширенное воспроизводство. Внутрирегиональная дифференциация основных характеристик рождаемости сглаживалась вследствие достижения большей однородности репродуктивного поведения разных социальных, этнических и территориальных групп. Степень занятости женщин во внедомашнем производстве почти перестала предопределять у них количество детей, как и уровень их образования и квалификации. Хотя различия целиком не исчезли, тенденция к унификации детородного процесса, начиная с повсеместного распространения малодетности, была налицо.
Данные переписей об итоговом числе детей у женщин разных возрастов показали, что рождаемость ограничивали все жившие в восточносибирской деревне поколения сельчанок, даже рожденные до 1910 г. и имевшие в среднем по 4,9 ребенка. В послевоенных поколениях ее индикаторы сблизились, что свидетельствует о стабилизации нормы детности в деревне в изучаемый период. Она не опустилась ниже «порога низкой рождаемости» (2 ребенка). Женщины из поколений 1940 – начала 1960-х гг. имели в среднем не менее 2,5 ребенка [Рождаемость, 2005, с. 132–157]. Рождаемость в деревнях региона оставалась всеобщей до конца советского периода. Микроперепись 1994 г. показала, что лишь 10,4 % женщин в возрасте 18 лет и старше, в том числе 4,8 % состоявших в браке, не родили детей [Состояние…, 1995, с. 132].
Ключевым моментом развития рождаемости в 60–80-х гг. стало ее «омоложение», т. е. концентрация в молодых возрастах. У женщин старше 25 лет она сокращалась темпами, пропорциональными возрасту, и фактически стала прекращаться к 35 годам. Максимум рождений переместился в когорту 20–24-летних женщин, и там их уровень оставался практически стабильным в течение всего периода. У 15–19-летних она выросла вдвое, и к началу 90-х гг. почти достигла уровня 25–29-летних женщин. В деревнях Восточной Сибири сложилась противоречивая репродуктивная модель, в которой сочетались снижение уровня рождаемости, как в развитых странах, и омоложение возрастной структуры матерей, как в отсталых развивающихся. Репродуктивный процесс стал неустойчивым, зависимым от возрастной структуры женщин фертильного возраста, прежде всего от удельного веса двадцатилетних.
Главные черты репродуктивного поведения сибиряков совпадали с общероссийскими, но были противоположны упрочивавшимся на Западе. Там с конца 1960-х гг. рождаемость, как и браки, «старела», репродуктивный период у женщин стал начинаться в основном с 25 лет, увеличивались интервалы между рождениями детей, рос вклад женщин средних и старших детородных возрастов в общую рождаемость, и в то же время появилась «мода» на отказ от рождения детей – добровольная бездетность. Общей чертой было распространение внебрачных рождений. В деревнях Восточной Сибири их уровень был рекордным в России и постоянно рос. В 1959 г. рожденные вне зарегистрированного брака дети составляли 20,3 % всех новорожденных, в 1991 г. – 26,9 % (в селах РСФСР соответственно 15,5 и 17,3 %) [Славина, 2007, с. 432]. В росте фактических браков и внебрачной рождаемости некоторые исследователи видят признаки второго демографического перехода – следующего этапа демографической модернизации. Представляется, что в восточносибирских деревнях эти явления были результатом не модернизационных успехов, а девиантного поведения, усугубленного традициями ряда этносов.
Все аспекты изменений в репродуктивном поведении сельчан свидетельствовали о внутренней перестройке сельского общества, но до завершения модернизации процесса рождаемости в деревнях региона, как и России, было далеко. Видно, что в 60–80-х гг. многодетность перестала считаться в деревне признаком благополучия, прокреативные отношения все больше стала определять малодет-ность, но жесткие репродуктивные нормы в деревнях региона не установились. С развитием малодетности сосуществовала средне- и, реже, многодетность.
Неотъемлемой частью демографической модернизации выступало «постарение» возрастной структуры населения. В этом процессе сибиряки очень отставали от сельских жителей России в целом. За 1959–1989 гг. удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше (индикатор старения) в сельском населении Восточной Сибири вырос с 7,6 до 11,8 %, РСФСР – с 10,6 до 18,4 %. Сибиряки подошли к «порогу старости» (12 % «стариков») только в 1989 г., тогда как сельское население России уже в 1970 г. достигло «среднего уровня старости» (14,1 %), а в 1989 г. оказалось на «очень высоком уровне». Старение шло по неблагоприятному типу – за счет снижения рождаемости, усугублявшейся миграцией молодежи из деревни, а не роста продолжительности жизни людей, как на Западе. Такой тип старения обесценивал многие выигрыши сельчан от модернизации, так как истощал демографический потенциал деревни. Этому « помогала» увеличивавшаяся диспропорция полов в сторону мужчин в репродуктивных возрастах из-за повышенной миграционной активности молодых сельчанок. Процесс начался в молодежных возрастных когортах и в течение 60–80-х гг. охватил население с 15 до 45 лет. Тем не менее демографический потенциал сибиряков, значительно сократившийся, в начале 90-х гг. был далек от истощения [Славина, 2007, с. 100, 104].
Общим результатом развития смертности и рождаемости является естественный прирост, объединяющий эти процессы в систему непрерывного воспроизводства населения. На рубеже 50–60-х гг. режим воспроизводства у сибиряков был чрезвычайно благоприятным: до минимума сократилось число смертей, но еще много рождалось детей, и естественный прирост был очень высоким – 24,4 чел. на тысячу жителей в 1960 г. Он на треть превосходил этот показатель по дерев- ням РСФСР (18,3 о/оо) и, что важно, достигался «ценой» сравнительно небольшого числа рождений. По-видимому, лучшего режима воспроизводства, чем в конце 1950-х гг., сибиряки никогда не имели.
За 60–80-е гг. ситуация ухудшилась: естественный прирост сократился повсюду из-за роста смертности, снижения рождаемости и старения населения, которое отрицательно влияло на оба процесса и удваивало негативный эффект. За 30 лет абсолютные размеры естественного прироста в деревнях региона уменьшились в 4, а его общий коэффициент – в 3,4 раза. Тем не менее и в конце советского периода он находился на уровне расширенного воспроизводства населения, тогда как российская деревня в целом приблизилась к рубежу простого замещения поколений. Положительную оценку демографических возможностей сельского населения подтверждает самый точный показатель – нетто-коэффициент (чистый коэффициент) воспроизводства, демонстрирующий меру замещения материнских поколений дочерними. Он тоже был выше единицы (границы простого воспроизводства) и составлял в 89–90 гг. в деревнях Восточной Сибири 1,373, РСФСР – 1,226.
Итак, в 60–80-х гг. восточносибирская деревня сделала очередной шаг по пути демографической модернизации. Большинство региональных демографических процессов протекали синхронно с общероссийскими, имели схожую динамику. Показатели естественного движения у сибиряков были выше, но не намного, их модель демографического перехода вписывалась в российскую как одна из ее региональных разновидностей. Внешне тренды основных процессов воспроизводства соответствовали стандартам модернизации, однако по качеству были весьма далеки от них. В деревнях Восточной Сибири сложился в принципе современный тип воспроизводства населения с нерациональным, затратным режимом из-за очень высокой смертности. Тогда же сформировалось противоречивое «демографическое наследство», с которым сибиряки пришли в постсоветскую эпоху. Это, с одной стороны, всеобщая, ранняя и весьма высокая по меркам модернизации рождаемость, «с запасом» обеспечивавшая воспроизводство поколений, достаточно молодое и медленно стареющее население с ослабленным, но далеким от истощения, демографическим потенциалом, с другой – большая диспропорция полов в репродуктивных когортах, сверхсмертность и архаичная структура ее причин во всех возрастах, не соответствовавшая закономерностям демографического перехода стагнация показателя продолжительности жизни на низком уровне, распространение внебрачной рождаемости, нелигитимной брачности и дестабилизация семьи. Итоги демографической модернизации восточносибирской деревни в советский период нельзя оценить однозначно, но ее интегральный показатель – естественный прирост – был высоким. Сельское общество обеспечивало, хотя немалой ценой, расширенное воспроизводство новых поколений. Принципиально важно подчеркнуть, что причина начавшейся в 1993 г. в восточносибирской деревне депопуляции крылась не в тенденциях демографического развития в предыдущих десятилетиях, а в системном кризисе начала 90-х гг. Перспективы депопуляции на этой территории, судя по трендам главных процессов, были реальными в будущем, но не неизбежными в ближайшие годы. Кризис же сделал ее неотвратимой.