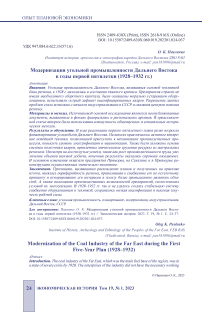Модернизация угольной промышленности Дальнего Востока в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.)
Автор: Павленко Олег Константинович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Опыт плановой экономики
Статья в выпуске: 1 (60) т.19, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Угольная промышленность Дальнего Востока, являвшаяся основой топливной базы региона, к 1928 г. находилась в состоянии тяжелого кризиса. Предприятия отрасли не имели необходимого оборотного капитала, были оснащены морально устаревшим оборудованием, испытывали острый дефицит квалифицированных кадров. Разрешение данных проблем стало возможно с началом индустриализации в СССР и оказания центром помощи региону. Материалы и методы. Источниковой основой исследования являются неопубликованные документы, выявленные в фондах федеральных и региональных архивов. В представленной статье автором была использована совокупность общенаучных и специальных исторических методов. Результаты и обсуждение. В ходе реализации первого пятилетнего плана резко возросло финансирование угледобычи Дальнего Востока. На шахтах края началось активное внедрение новейшей техники, позволившей приступить к механизации производственных процессов, повысить уровень электрификации и машинизации. Также были заложены основы системы подготовки кадров, привлечены значительные трудовые ресурсы из центральных регионов. Несмотря на достигнутые успехи, такие как рост производительности труда, увеличение объемов валовой добычи, конечные результаты оказались скромнее ожидаемых. В основном изменения охватили предприятия Приморья, на Сахалине и в Приамурье реконструкция осуществлялась значительно медленнее. Заключение. Причинами, вызвавшими расхождение планов и полученных на практике итогов, являлась периферийность региона, приводившая к снабжению его по остаточному принципу и игнорированию его интересов в пользу более промышленно развитых областей. А также недооценка производственных возможностей предприятий, геологических условий их эксплуатации. В 1928-1932 гг. так и не удалось создать стабильную систему снабжения оборудованием и техникой, сохранялись низкая квалификация и высокая текучесть рабочей силы.
Угольная промышленность, планирование, модернизация, индустриализация, дальний восток, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147240195
IDR: 147240195 | УДК: 947.084.6:622.33(571.6) | DOI: 10.15507/2409-630X.060.019.202301.024-037
Текст научной статьи Модернизация угольной промышленности Дальнего Востока в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.)
В период индустриализации перед отечественным промышленным комплексом встала задача модернизации, включавшая масштабное техническое переоснащение предприятий, внедрение в производственный процесс новых технологий, повышение производительности труда. Дальневосточная индустрия к 1928 г. относилась к числу наименее развитых в стране: региональные предприятия наиболее остро ощущали недостаток оборотных средств, квалифицированной рабочей силы, новейшего оборудования и техники. Критическим было положение и в угольной отрасли, обеспечивающей топливные потребности местной промышленности; износ производственных фондов достигал 70 %, на шахтах преобладал тяжелый и малоэффективный физический труд, отсутствовала необходимая система подготовки кадров. Приступить к систематическому решению названных проблем стало возможно лишь после включения Дальнего Востока в единый процесс развития экономики СССР в годы первых пятилеток и непосредственного оказания центром помощи региону. В данном исследовании поставлена задача анализа условий и специфических особенностей модернизации угольной отрасли на Дальнем Востоке в 1928–1932 гг.
Материалы и методы
Источниковой основой представленной статьи выступают неопубликованные документы, выявленные в фондах федеральных и региональных архивов. Автором были проанализированы отчетные доклады треста «Дальуголь», представленные в Госплан СССР; материалы о задачах и итогах выполнения первого пятилетнего плана; делопроизводственная документация угольных предприятий Дальнего Востока, а также постановления и резолюции партийных органов.
В ходе работы были использованы как общенаучные методы (анализ, синтез, индукция), так и специально-исторические: историко-системный, историко-генетиче- ский, структурный. Изучение финансовохозяйственной деятельности предприятий обусловило применение также метода экономического анализа.
Обзор литературы
Индустриализация на Дальнем Востоке СССР является одним из ключевых событий истории региона, что обусловило широкий интерес исследователей к данной проблеме как в советский, так и в постсоветский период. Несмотря на значительное количество работ [2–7; 9–11; 13], посвященных изучаемой теме, необходимо уточнить, что лишь в некоторых из них угольная промышленность края выступала в качестве самостоятельного объекта исследования. В основном она рассматривалась фрагментарно, что обусловило отрывочность и неполноту сведений об истории отрасли. Кроме того, на наш взгляд, на современном этапе требуются пересмотр ряда положений и выводов, уход от односторонности в оценке достигнутых результатов.
Результаты
Проблемам развития угольной промышленности в годы НЭПа дальневосточное руководство уделяло особое внимание. Отрасль не только обеспечивала стратегические потребности края в топливе, но и являлась источником валютных поступлений. В условиях дефицита финансовых и трудовых ресурсов были преодолены основные последствия послереволюционного кризиса: восстановлен уровень добычи, проведен частичный ремонт шахтных фондов, начато формирование системы подготовки кадров. Дальнейшее развитие региональной угледобычи стало предметом внимания центральных органов власти. Согласно решению Президиума ВСНХ СССР, 1 октября 1925 г. был создан трест «Примуголь», объединивший крупнейшие угольные предприятия Приморья, дававшие 80 % всей добычи на Дальнем Востоке. Организация треста положила начало центральному финансированию индустрии, в первый же год дальневосточной угольной отрасли было отпущено 250 тыс. руб. В 1926 г. тресту «Примуголь» и ряду других дальневосточных предприятий было выделено в общей сложности около 1 млн руб. [2, с. 144, 145].
Финансирование угольной промышленности региона общесоюзным центром в конце 1920-х гг. свидетельствовало о повышении значимости отрасли и об осознании ее важности в деле развития региона. Однако средства, выделяемые на данном этапе, являлись явно недостаточными и не покрывали текущих потребностей. Трест с момента создания не располагал необходимым оборотным капиталом, недостаток средств по намеченному капитальному строительству в 1927/28 г. составил рекордные 955 тыс. руб. Годом ранее этот показатель равнялся 820 тыс. руб., задолженность по заработной плате к 1927 г. выросла до 300 тыс. руб.1 В данных условиях, подразумевавших невозможность масштабной модернизации, наращивание добычи угля осуществлялось путем использования устарелой техники и тяжелого низкоквалифицированного ручного труда, что не отвечало растущим потребностям в топливе. Следствием этого являлась зависимость краевой промышленности от поставок из Черемховского бассейна, притом что на Дальнем Востоке добывалась лишь малая часть известных запасов, а значительная часть месторождений не была изучена вовсе [11, с. 74, 76].
Принятие первого пятилетнего плана обусловило резкое возрастание финансирования угольной промышленности Дальневосточного края (ДВК). В свою очередь это потребовало изменений в управленческой системе отрасли. Еще в 1927 г. был создан трест «Дальуголь», объединивший все крупные угледобывающие предприятия Дальнего Востока: Сучанские, Артемовские, Тавричанские копи в Приморье, Кивдинские в Приамурье, Октябрьские на Северном Сахалине. Помимо них, до отде- ления в 1930 г. от ДВК Читинского округа в подчинении треста находились Черновские копи Забайкалья. В 1929 г. статус треста «Дальуголь» был повышен до всесоюзного. Создание единого координирующего треста, аналогичного существующим в других угольных районах СССР, должно было обеспечить единоначалие в управлении и выполнении намеченных производственных задач [1, с. 145]. Согласно первой редакции пятилетнего плана, тресту на капитальное строительство отпускалось всего около 35 млн руб., из них 5 млн 500 тыс. руб. – в 1929/30 г.2 Общая добыча в ДВК к началу 1933 г. должна была вырасти в 2,6 раза, составив 3 млн 425 тыс. т. Для достижения указанных показателей предполагалось развернуть строительство 13 шахт и 2 штолен на действующих предприятиях, а также организовать четыре новые копи3.
Первостепенной задачей для реализации амбициозных планов первой пятилетки являлось масштабное обновление производственных фондов угольных предприятий. С этой целью в 1929 г. трест «Дальуголь» разместил первые заказы на Горловском и Сталинском заводах – крупнейших центрах машиностроения в стране [5, с. 109]. Однако уже в следующем году реорганизация в системе управления угольной промышленностью поставила снабжение краевой отрасли новым оборудованием и техникой в затруднительное положение.
Согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г. и последующему постановлению СТО от 28 июля 1930 г., все угольные предприятия СССР к востоку от Волги были переданы в непосредственное подчинение Государственному союзному объединению каменноугольной промышленности Восточной Сибири «Востуголь»4.
На территории ДВК это означало расформирование треста «Дальуголь» и создание Дальневосточного районного управления «Востугля», фактически лишенного хозяйственной самостоятельности.
Структура нового объединения «Вост-уголь», в подчинении которого находились угольные предприятия Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии, оказалась чрезмерно громоздкой. Естественным стало стремление руководства сосредоточить основное внимание на удовлетворении потребностей крупнейших угольных бассейнов Урала и Сибири, в первую очередь Кузбасса. Решение вопросов модернизации дальневосточных предприятий, чей производственный потенциал был несоизмеримо меньше, отодвинули на второй план. Удовлетворение заявок на новое оборудование бывшего треста «Дальуголь» на данном этапе производилось по остаточному принципу, на Дальний Восток отгружалась, как правило, списанная и невостребованная в других районах техника. Так, в 1931 г. приморские шахты получили три списанные подъемные машины с Донецкого и Кузнецкого бассейнов, одна из которых поступила в разобранном состоянии, без запасных частей; изготовить же их на месте было невозможно из-за отсутствия ремонтной базы.
Кроме того, рассмотрение заявок осуществлялось крайне медленно, из-за чего их одобрение происходило позже положенных сроков. К этому добавлялось следование грузов на Дальний Восток от трех месяцев и дольше. В итоге шахты получали заказанное оборудование в третьем и четвертом кварталах5. Фактически происходил срыв работ в первой половине года, так как часть оборудования еще не поступала, а из поступившего не все было пригодным для эксплуатации. Шахтеры в начале следующего года имели тот же производственный фонд, что и в конце прошлого, при этом данное обстоятельство часто игнорировалось при составлении планов.
Финансовое обеспечение деятельности дальневосточных предприятий в рамках объединения также не являлось благополучным. В конце 1930 г. «Востуголь» удержал часть средств, выделенных Промбанком для Дальнего Востока, в результате чего дальневосточные предприятия были вынуждены перекредитоваться в Госбанке и начать 1931 г. с задолженностью в 5 млн 61 тыс. руб.6 Естественным образом это отразилось на сокращении объема намеченных работ, притом что и в предыдущие годы полученные средства не в полной мере покрывали потребности производства. Ходатайство краевых организаций о выделении дополнительного финансирования Дальнему Востоку осталось без ответа7.
В 1930–1931 гг. новое капитальное строительство испытывало ряд серьезных трудностей, лимитировавших его темпы. Фактически оно было разделено между проектным отделом во Владивостоке и проектным сектором Кузбассугля в Томске. Работы, находившиеся в ведении Кузбассшах-топроекта, велись с большими задержками, снабжение стройматериалами производилось не в полном объеме: лесом рудники были снабжены на 43 %, известью – на 38, цементом – на 78 %. В результате объекты простаивали по несколько месяцев, строительство шахты № 1 на Тавричанке было заморожено на пять месяцев из-за отсутствия крепежного леса8. Основная причина такого положения в отчетных докладах, представленных в Госплан, была сформулирована следующим образом: «Интересы самого Кузбасса затирают Дальуголь»9. Проблемы с поставками из центра приве- ли к решению организовать заготовку необходимых материалов непосредственно на предприятиях. В последнем квартале 1931 г. собственными силами на Сучане и Артеме было заготовлено 818 т извести, 1 620 тыс. шт. кирпичей, 15 692 куб. м песка, 1 612 куб. м гравия10. Данная мера, хотя и не способствовала решению обозначенной проблемы, позволила при этом вести строительные работы в минимальном объеме.
Неудовлетворительная работа дальневосточной угледобычи в рамках объединения «Востуголь», игнорирование ее потребностей в технике и финансовом обеспечении вскоре стали очевидны как центральному, так и местному руководству. В связи с этим 1 июня 1931 г. был восстановлен трест «Да-льуголь», напрямую подчинявшийся ВСНХ СССР, для разработки мелких месторождений был создан отдельный трест «Край-уголь» [4, с. 89]. Возвращение к прежней структуре управления дало положительные результаты уже во второй половине 1931 г. Так, размеры фондов, выделенные ВСНХ напрямую воссозданному тресту, значительно превзошли отправленное «Восту-глем» в начале года (табл. 1).
Изменение ситуации со снабжением в лучшую сторону при этом не означало окончательного разрешения упомянутых проблем. Новое оборудование по-прежнему поступало с большим опозданием и не в полном объеме, срывая намеченные планы и вынуждая руководство треста решать текущие задачи на основе имеющейся материальной базы. Так, в конце 1931 г., не дожидаясь поступления специальной техники, на конном вороте были заложены стволы двух шахт Артема, шахты «Капитальной» Тавричанки и одной шахты на Сучанском руднике11. Тем не менее устранение посреднического звена между дальневосточными предприятиями и центральными
Таблица 1
Снабжение оборудованием и материалами дальневосточных угледобывающих предприятий в 1931 г.*/
Table 1
Supply of equipment and materials to Far Eastern coal mining enterprises in 1931
|
Оборудование и материалы / Equipment and materials |
Выделено объединением «Востуголь» в 1-м полугодии / Allocated by Vostugol Association in the 1st half of the year |
Выделено ВСНХ СССР во 2-м полугодии / Allocated by the Supreme Economic Council of the USSR in the 2nd half of the year |
|
Колонковые лебедки, шт. / Column winches, pcs. |
– |
22 |
|
Скреперные лебедки, шт. / Scraper winches, pcs. |
– |
8 |
|
Блоки Людерса, шт. / Luders blocks, pcs. |
– |
10 |
|
Бурильные молотки, шт. / Drill hammers, pcs. |
19 |
15 |
|
Отбойные молотки, шт. / Jackhammers, pcs. |
– |
200 |
|
Станки, шт. / Machines, pcs. |
10 |
2 |
|
Бетономешалки, шт. / Concrete mixers, pcs. |
– |
6 |
|
Вентиляторы кузнечные, шт. / Forging fans, pcs. |
– |
9 |
|
Железо сортовое, т / Varietal iron, tons |
988 |
1 200 |
|
Железо кровельное, т / Roofing iron, tons |
120 |
155 |
|
Трубы железные, т / Iron pipes, tons |
100 |
180 |
|
Болты, т / Bolts, tons |
34 |
45 |
|
Цемент, т / Cement, tons |
670 |
2 680 |
* Составлена по: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 29. Д. 292. Л. 58, 59 / Compiled according to: RGAE. F 4372. Inv. 29.
C. 292. P. 58, 59.
хозяйственными органами позволило оперативно решать вопросы обеспечения.
Значительно уступал изначально намеченному планом уровень механизации дальневосточных предприятий. Из них только два крупнейших, Сучан и Артем, были вовлечены в процесс, на Тавричанке лишь к концу пятилетки начали работу в данном направлении (табл. 2). Несмотря на то что рост механизированной добычи опе- режал рост общей, план по ней был выполнен только на 33,8 %. Механизация в целом охватила 41,1 % добытого угля на шахтах Приморья, при этом такие процессы, как навалка, закладка, крепление, по-прежнему полностью выполнялись вручную12.
Сложившаяся ситуация явилась следствием и плохо поставленного снабжения (шахты были обеспечены электросверлами на 20,8 %, компрессорами – на 45,5 %), и
Таблица 2
Механизированная добыча на предприятиях треста «Дальуголь» в годы первой пятилетки * /
Table 2
Mechanized mining at the enterprises of the Dalugol Trust during the first five-year plan
|
Предприятия / Enterprises |
1931 г. (тыс. т) / 1931 (thousand tons) |
1932 г. (тыс. т) / 1932 (thousand tons) |
1932 г. к 1931 г. в % / 1932 to 1931 in % |
|
Сучан / Suchan |
61,7 |
186,4 |
302,1 |
|
Артем / Artem |
482,5 |
608,6 |
126,1 |
|
Тавричанка / Tavrichanka |
– |
16,2 |
– |
|
Кивда / Kivda |
– |
– |
– |
|
Сахалин / Sakhalin |
– |
– |
– |
|
Всего / Total |
544,2 |
811,2 |
149,1 |
* Составлена по: РГАЭ. Ф. 7566. Оп. 1. Д. 20. Л. 18 / Compiled according to: RGAE. F. 7566. Inv. 1. C. 20. P. 18.
неудовлетворительной работы с тем оборудованием, что было получено13. В тресте отсутствовала планомерная политика механизации: неудовлетворительно велся учет внедряемого оборудования, игнорировались геологические условия месторождений, в результате чего загрузка механизмов была значительно ниже возможной. В Артеме производительность электросверл составляла 2 500–3 000 т в месяц вместо рассчитанных 4 500–5 000 т, эффект от работы электровозов был ниже ожидаемого более чем в 2 раза14.
Стоит сказать, что ряд проблем не могли быть преодолены в текущих условиях. Механизация дальневосточных шахт начиналась с нуля, и проведение подобной работы при дефиците квалифицированных кадров было необычайно тяжелым. Инженерно-технические работники (ИТР) угольных предприятий столкнулись с недоброкачественным оборудованием, недостатком обслуживающего персонала, отсутствием вспомогательных деталей: из заказанных на 11 010 руб. запчастей к конвейерам в 1931 г. не было получено ни-чего15.
Переход на более сложный производственный уровень, сопровождавшийся внедрением новой техники и механизмов, потребовал создания устойчивой системы энергоснабжения шахт. Лидирующие позиции в этом вопросе занимал Сучан: в сентябре 1931 г. там была пущена в эксплуатацию первая ЦЭС в угольной промышленности Дальнего Востока. На предприятии к концу пятилетки действовали также два электрических стационарных компрессора. Было принято решение обеспечить Артем электроэнергией путем строительства линии электропередач от Владивостокской электростанции. Ток по новой ЛЭП предприятие стало получать с марта 1929 г. [7, с. 99, 100].
При этом усилия, направленные на электрификацию угледобычи, не смогли обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией. В начале 1930-х гг. хроническим явлением были частые поломки, приводившие к перерывам в подаче тока и остановке всего оборудования16. Важно также отметить, что за исключением Суча-на и Артема остальные предприятия ДВК практически не были электрифицированы. На копях Сахалина в 1932 г. по причине отсутствия электроэнергии остались без ввода в эксплуатацию 8 компрессоров, 40 электросверл, 108 бурильных и отбойных молотков17.
Рост энергетических потребностей края в начале 1930-х гг. побудил руководство треста приступить к организации нового крупного предприятия по добыче угля. Наиболее перспективным с этой точки зрения оказалось Райчихинское буроугольное месторождение в Приамурье. Строительство новых копей в этой части Дальнего Востока должно было способствовать созданию еще одной топливной базы региона (Кив-до-Райчинские копи) наряду с Приморьем и Сахалином. В 1931 г. на Райчихе были проведены разведки, съемки, изыскания, и по их итогам принято решение об организации открытых работ на разрезе18. Однако реализация проекта потребовала затрат до 6 млн руб. и, кроме того, строительства подъездных путей. В итоге ввод в эксплуатацию нового предприятия был перенесен и состоялся только в 1933 г., после того как обязательства по добыче и достройке железнодорожной ветки взял на себя Дальлаг НКВД19.
Обеспечить предприятия Дальнего Востока достаточным числом рабочих, при этом имеющих необходимую квалификацию, в годы первой пятилетки не удалось. В значительной степени это обстоятельство объясняет вышеназванные трудности в выполнении планов. Низкая заработная плата по сравнению с другими отраслями, плохие жилищные условия в сочетании с тяжелым физическим трудом определили высокий процент прогулов и текучести. Из устроившихся на шахты Сучана с октября 1929 по апрель 1930 г. 3 503 чел. вскоре уволилось
2 565 чел.; в Артеме 73 % рабочих имели опыт работы меньше года20. Регулярно регистрировались случаи нарушения трудовой дисциплины, до 20 % прогулов приходилось на неуважительные причины21. Следствием данного положения дел стала хроническая нехватка кадров на всех ступенях производственного цикла и низкий уровень квалификации, обусловленный отсутствием опыта.
С целью ликвидации сложившегося дефицита рабочих рук в отрасли трестом в начале 1930-х гг. была развернута вербовочная кампания, направленная на привлечение рабочей силы преимущественно из центральных регионов РСФСР: Нижневолжского края, Центральной, Черноземной, Белгородской областей, Татарской, Башкирской и Мордовской республик. В результате данных мероприятий, проводимых как в центре, так и в самом ДВК, рудники Дальнего Востока пополнились в общей сложности около 35 тыс. рабочих с 1931 по 1938 г. только по линии промпере-селения. Дополнительными источниками шахтерских кадров являлись освободившиеся заключенные, тылоополченцы, уволенные в запас красноармейцы.
Однако наплыв столь большого числа неквалифицированных рабочих способствовал лишь некоторому облегчению кадрового вопроса, но не изменил общего положения. Нерешенность вопросов социально-экономического характера по-прежнему сказывалась на высоком уровне текучести и низкой трудовой дисциплине. В заключительном году первой пятилетки недокомплект трудящихся по штату составил 41,2 %, число убывших в 1932 г. превысило число прибывших на 8 003 чел. 22
Помимо прежних факторов текучести, теперь одной из ее дополнительных причин стало расхождение обещанного вербовщи- ками и реального положения дел. Для того чтобы набрать необходимое число желающих переехать на Дальний Восток, пром-переселенцам обещали расценки, каких в реальности не существовало [3, с. 66, 140]. После прибытия новые рабочие сталкивались с непривычным для себя климатом, высокими ценами и низкой заработной платой. Например, зарплата крепильщика в тресте «Дальуголь» была в 5 раз ниже, чем на Донбассе. На шахтерских собраниях переселенцы в свою очередь выдвигали заранее невыполнимые условия: увеличение расценок или возвращение их на места вы-воза23. Однако выполнить немедленно ни то ни другое предприятия не могли по причине отсутствия необходимых средств.
Массовое переселение рабочих естественным образом привело к переезду с ними членов семей, женщин и детей; в большинстве своем данные лица не могли быть использованы для работы в отрасли. Прибытие большого числа иждивенцев на предприятия треста еще сильнее способствовало обострению жилищного кризиса. Наблюдалось ежегодное снижение количества жилплощади, приходящейся на одного человека: так, если 1 января 1931 г. данный показатель составлял 3,44 кв. м, то через год он упал до 3,03 кв. м24. Наиболее катастрофическое положение наблюдалось на Сахалине: здесь на государственных копях на одного живущего приходилось 1,96 кв. м, что было меньше установленной нормы на 5,52 кв. м. На этом фоне заметно выделялся Дуйский рудник, который по условиям вывода войск Японии с острова в 1925 г., был сдан ей в концессию; там один живущий располагал 6,35 кв. м25. В поисках лучших условий жизни и работы ежегодно значительная часть завезенных на остров рабочих переходила с государственных предприятий на концессионное, в результате подрывался и без того слабый потенциал угледобычи на Сахалине [8, с. 104].
Наиболее болезненным вопросом в кадровой политике дальневосточных шахт была подготовка квалифицированных кадров, без которой модернизация не представлялась возможной. Дальний Восток в целом не располагал необходимым числом инженерных специалистов, их численность в регионе была в 2 раза ниже среднего показателя по РСФСР. На Артемовских копях в начале первой пятилетки инженеры составляли всего 0,16 % от общей численности работающих [12, с. 149]. В области среднего профессионального образования трест располагал только сучанской школой горнозаводского ученичества (горнзавуч), организованной в 1923 г. Уже во второй половине 1920-х гг. стало очевидно, что исключительно силами горнзавуча невозможно охватить весь контингент рабочих даже на Сучане. В годы индустриализации механизация производства потребовала срочного расширения учебной сети треста в плане как увеличения числа подготавливаемых специальностей, так и охвата других угольных предприятий.
В 1931 г. на Сучане было создано Горнопромышленное училище, тогда же на его базе организовали Горный техникум. Подготовка кадров в тресте столкнулась с недостатком учебных площадей, оборудования, спецодежды, а также с острым дефицитом преподавательского состава. Тем не менее полученный опыт сыграл важную роль в становлении среднетехнического образования на шахтах ДВК. Впоследствии сеть училищ и различного рода курсов, готовивших вспомогательные специальности, охватила большую часть угледобывающих предприятий. Всего в заключительном году первой пятилетки получением образования было охвачено 4 679 рабочих из планируемых 6 296, или 76,4 %26.
Значительно труднее шла организация подготовки кадров с высшим образованием.
Окончательное разрешение данный вопрос мог получить лишь при поддержке центра, в первую очередь в вопросе финансирования. Однако на практике центральными хозяйственными органами не в полной мере осознавалась проблема дефицита кадров на Дальнем Востоке. Так, в апреле 1931 г. сектор кадров ВСНХ СССР вынес решение о ликвидации горного факультета при Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ) и передаче его контингента Сибирскому горному институту. Реализация данной меры, которая стала невозможна из-за протеста краевых организаций, фактически лишила бы рудники края ИТР. Оставление факультета во Владивостоке при этом сопровождалось выделением контингента всего в 45 чел. на 1931 г., притом что «Да-льуголь» заявлял о необходимости подготовки 125 чел27.
В июле 1931 г. ВСНХ также отклонил ходатайство треста о выделении 223 882 руб. на содержание дополнительных групп по подготовке ряда остродефицитных специальностей, что грозило усилением дефицита инженерно-технического персонала. Невозможность осуществлять подготовку высших кадров в требуемом объеме вынудила управляющего трестом А. С. Аллилуева выступить с ходатайством о выделении горного факультета ДВПИ в отдельный Горный институт, который работал бы на нужды краевой угледобычи28. Данное предложение получило одобрение и было реализовано в полном соответствии с внесенным проектом. Уже 1 января 1932 г. во Владивостоке начал работу Дальневосточный горный институт (ДВГИ), включавший два факультета: горноразведочный и горноэксплуатационный, с общим контингентом 175 чел. [12, с. 154].
Неудовлетворительным было положение с организацией техники безопасности на шахтах Дальнего Востока. Данный вопрос по факту был отодвинут в начале 1930-х гг. на второй план, хотя от его решения зависели жизни шахтеров. Приморские месторождения, в особенности Сучан, требовали особых условий эксплуатации: на предприятии 13 шахт из 23 относились к газовым, где наблюдалось выделение метана. При этом только на трех шахтах была частично оборудована искусственная вентиляция, полностью она была завершена лишь на одной шахте. Кроме того, отсутствие достаточного числа аккумуляторных ламп вынуждало выдавать рабочим с собой бензиновые лампы, несовместимые с газовым режимом. Итогом стало то, что из 32 смертельных случаев в 1932 г. 12 произошли из-за взрывов метана29.
В годы первой пятилетки на предприятиях треста по-прежнему оставалось неудовлетворительным положение с оказанием медпомощи. Оказался полностью неисполненным приказ Наркомата тяжелой промышленности о постройке в 1932 г. четырех спасательных станций: на Сучане, Артеме, Тавричанке и Кивде. К работам в данном направлении в отчетном году даже не приступили30.
Фактические результаты выполнения первого пятилетнего плана оказались скромнее, чем предполагалось изначально. Задания по общей и механизированной добыче не были выполнены ни за один год. Оставались нерешенными вопросы технического перевооружения производства, электрификации, кадровой политики, транспортной логистики. Су-чан, главный поставщик каменного угля и кокса, так и не был соединен ширококолейной веткой с Уссурийской железной дорогой, а имевшаяся узкоколейная линия имела малую пропускную способность и не справлялась с увеличивавшейся нагрузкой, тормозила модернизацию предприятия [6, с. 262].
Причинами расхождения планов с окончательными итогами являлись изначально завышенные задания, не учитывающие реальное положение дел и производственные возможности предприятий. Как упоминалось, в 1928–1932 гг. так и не удалось создать стабильную систему обеспечения шахт новой техникой и оборудованием, механизация охватила лишь часть процессов, большинство работ по-прежнему выполнялось вручную. Основной контингент рабочих дальневосточной угледобычи при этом представляли малоквалифицированные или вовсе необученные выходцы из центральных регионов. Негативно отразились также неоднократные реорганизации, несмотря на то что их целью являлся поиск наилучшей системы управления отраслью. По факту в 1930–1931 гг. шахты ДВК были вынуждены добиваться решения своих про- блем в центре практически самостоятельно.
Тем не менее угольные предприятия Дальнего Востока претерпели кардинальные изменения в организации производства, встали на путь масштабной модернизации и сократили отставание от ведущих бассейнов страны. Общая добыча угля на Дальнем Востоке в 1932 г. выросла по отношению к 1927/28 г. в 1,8 раза, достигнув 1 млн 974 тыс. т [10, с. 211]. Производительность труда, несмотря на недостатки в механизаторской политике, в 1932 г. составила 135 % по отношению к первому году31.
Итоговые затраты за пятилетку выразились в 65 млн 744 тыс. руб. вместо изначально планируемых 35 млн руб. (табл. 3). При этом формальное превышение изначально намеченных сумм совсем не предполагало благоприятного решения поставленных задач. Нередко трест по ряду
Таблица 3
Капиталовложения в трест «Дальуголь» в годы первой пятилетки, тыс. руб. * /
Table 3
Investments in the Dalugol Trust during the first five-year plan (thousand rubles)
|
1928/29 г. |
1929/30 г. |
Особ. кв. 1930 г. |
1931 г. |
1932 г. |
Всего с 01.10.28 по 01.01.33 |
|
|
Новое шахтное строительство / New mine construction |
256,3 |
2053,1 |
465,1 |
3 921,3 |
8 439,7 |
15 334,5 |
|
Реконструкция / Reconstruction |
3 905,6 |
6 431,0 |
1 931,5 |
11 608,8 |
16 738,0 |
40 504,8 |
|
Капремонт / Overhaul |
298,6 |
590,3 |
193,1 |
777,4 |
791,8 |
2 851,2 |
|
Строительство науч-ис-следов. учреждений / Construction of scientific research institutions |
– |
– |
– |
28,6 |
26,2 |
54,8 |
|
Геологоразведка / Geological exploration |
638,0 |
612,2 |
81,3 |
2 219,0 |
1 885,3 |
5 439,8 |
|
Прочие работы / Other work |
15,0 |
2,0 |
43,3 |
204,2 |
1 303,0 |
1 568,5 |
|
Всего / In total |
5 213,4 |
9 691,6 |
2 706,3 |
18 759,2 |
29 373,0 |
65 743,6 |
* Составлена по: ГАПК. Ф. Р-1197. Оп. 1. Д. 11. Л. 172 / Compiled according to: GAPK. F. R-1197. Inv. 1. C. 11.
P. 172.
позиций просто не мог удовлетворить свои потребности ввиду отсутствия или острого дефицита нужных ему материалов и оборудования. Негативно сказывались вышеупомянутые реорганизации, переезды аппарата треста, не позволившие наладить нормальное функционирование, а также недостаточный уровень подготовленности высшего административного персонала. Складывалась ситуация, когда по ряду статей оставались значительные суммы неосвоенных кредитов, в 1931 г. из ассигнованных на капитальное строительство средств «Дальуголь» израсходовал только 68,48 %32.
Заключение
В годы первого пятилетнего плана в вопросе модернизации угольной промышленности Дальнего Востока были только обозначены основные направления дальнейшей деятельности. Несмотря на непосредственное внимание центральных хозяйственных органов к проблемам развития отрасли и выделение ей ранее невиданных объемов финансирования, процесс технической реконструкции был далек от завершения. Кардинальные изменения на угледобывающих предприятиях региона начались в последние два года реализации плана и охватили по большей части шахты
Приморья, в то время как в Приамурье и на Сахалине индустрия по-прежнему находилась в кризисном состоянии. Во вторую пятилетку отрасль перешла с комплексом нерешенных проблем: недостаточный уровень механизации и машинизации труда, дефицит электроэнергии, нехватка кадров, в особенности квалифицированных, а также ненормальные жилищно-бытовые условия, препятствующие формированию постоянного рабочего контингента.
Разрыв между намеченным и достигнутым на практике стал следствием как периферийного положения региона и удовлетворением его потребностей по остаточному принципу, так и характерной для всей угольной промышленности страны переоценкой производственных возможностей предприятий. Ежегодное повышение показателей, спускаемых тресту «Дальуголь», игнорировало такие факторы, как недопоставка и выход из строя оборудования, высокая текучесть рабочей силы, сложные геологические условия месторождений. Тем не менее изменения 1928–1932 гг. стали отправной точкой дальнейшего переоснащения угледобычи Дальнего Востока, способствовали повышению топливной безопасности региона и сокращению отставания от передовых угольных районов СССР.
Список литературы Модернизация угольной промышленности Дальнего Востока в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.)
- Баканов С. А. Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарождения до упадка. Челябинск: Энциклопедия, 2012. 328 с.
- Быструшкин А. Ю. Государственная политика и частный капитал в сфере развития угольной промышленности на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. - 20-е гг. XX в.: дис. ... канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2010. 198 с.
- Глущенко И. И. Рабочий класс советского Дальнего Востока в переходный к социализму период (1922-1937). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1986. 220 с.
- Ермакова Э. В. Угольщики Приморья (1920-е - начало 30-х годов) // Угольная промышленность Приморья (история, состояние и перспективы развития). Владивосток, 1994. С. 80-92.
- Маклюков А. В., Павленко О. К. Техническое переоснащение предприятий угольной промышленности Приморья в годы индустриализации // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 3. С. 106-118.
- Маклюков А. В. Сучанская узкоколейная железная дорога (1904-1935 гг.) // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2016. № 3. С. 258-262.
- Маклюков А. В. Электрификация угольной промышленности Дальнего Востока России (1904-1941 гг.) // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017. № 3. С. 95-107.
- Марьясова Н. В. Иностранный капитал на Дальнем Востоке России в 20-30-е годы (концессии и концессионная политика Советского государства). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2000. 168 с.
- Тетюева М. В. История формирования и развития угольной промышленности на Сахалине: середина XIX в. - 1945 г: дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2003. 216 с.
- Унпелев Г. А. Завершение социалистической реконструкции промышленности Дальнего Востока (1933-1937). О деятельности Коммунистической партии по социальной индустриализации Дальневосточного края. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1975. 254 с.
- Унпелев Г. А. Социалистическая индустриализация Дальнего Востока. О деятельности Коммунистической партии по индустриализации Дальневосточного края (1928-1832). Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1972. 296 с.
- 12.Хисамутдинова Н. В. Подготовка инженеров на Дальнем Востоке: проблемы и решения (исторические очерки). Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. 218 с.
- Щуковская Ю. П. Кадровая политика в угольной отрасли Приморья в 30-е гг. XX в. (По документам Государственного архива Приморского края) // Россия и АТР. 2008. № 4. С. 32-38.