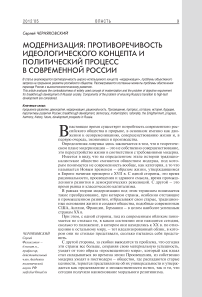Модернизация: противоречивость идеологического концепта и политический процесс в современной России
Автор: Черняховский Сергей Феликсович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 5, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется противоречивость широко используемого концепта «модернизация», проблемы объективного запроса на прорывное развитие российского общества. Рассматриваются составные моменты проблемы обеспечения перехода России к высокотехнологическому развитию.
Прорывное развитие, демократия, модернизация, рациональность, просвещение, прогресс, согласие, история, будущее, перспективы развития России
Короткий адрес: https://sciup.org/170166406
IDR: 170166406
Текст научной статьи Модернизация: противоречивость идеологического концепта и политический процесс в современной России
В настоящее время существует потребность современного российского общества в прорыве, в основном именно как дви-жении к осовремениванию, совершенствованию жизни и, в первую очередь, экономики и производства.
Определенная ловушка здесь заключается в том, что в теоретиче-ском плане модернизация — это не собственно совершенствование, это переустройство жизни в соответствии с требованиями модерна.
Имеется в виду, что на определенном этапе истории традицио -налистское общество сменяется обществом модерна, под кото рым понимается не современность вообще, как категория, а то что называется Новым временем — образом жизни, утверждавшимся в Европе начиная примерно с XVII в. С одной стороны, это время рациональности, просвещения и здравого смысла, время промыш ленного развития и демократических революций. С другой — это время рынка и классического капитализма.
В рамках теории модернизации под этим термином понимается такое преобразование, при котором страны, особенно отстающие в промышленном развитии, отбрасывают свои старые, традицион-ные основания жизни и создают общества, подобные современным США, Англии, Франции, Германии — в целом наиболее успешным странам ХХ в.
ЧЕРНЯХОВСКИЙ Сергей
При этом, с одной стороны, под их современным обликом пони -мается не столько то, в каком состоянии они находятся сегодня, сколько то положение, в котором они находились к ХХ в. по отно шению к остальному миру, — тот идеализированный облик, в кото -ром они не столько представали, сколько пытались себя предста вить.
С другой стороны, за скобки выводится та проблема, что сегодня эти страны все больше, сохраняя свою материальную успешность, уходят от того образа «просвещенного мира», который как идеал стал складываться во времена эпохи Просвещения, из собственно модерна уходят в постмодерн — общество, где распадаются старые ценности, теряется представление об их универсальности и утверждается как представление о множественности истин, так и то, что сегодня получило наименование морального релятивизма.

Теория модернизации срисовывает с успешных обществ те или иные внешние черты и предлагает посвятить энергию страны тому, чтобы их воспроизводить, умалчивая о необходимости сначала со здать те содержательные начала успеха, которые в конечном счете оформляются в свои внешние проявления.
Рыночные отношения стали господ -ствующими лишь в последние триста лет, и лишь благодаря тому, что стали господ ствующими промышленные формы про изводства, требующие таких отношений. До этого рыночные отношения в основ -ном сводились к купеческой деятельности и лишь отвлекали внимание и средства от развития производства.
Демократические революции стали совершаться тогда, когда стало разви ваться промышленное производство, когда наука и техника обеспечили про мышленную революцию и третье сосло вие стало настолько самодостаточным, что бросило вызов абсолютистскому го сударству и уходящей феодальной аристо кратии.
Без этого демократические государ-ственные образования средневековья всегда либо вырождались в олигархии, как в Венеции, либо сменялись тираниями, как во Флоренции, либо приводили к хаосу, как в Речи Посполитой. Ни одна из средневековых демократий не развилась в сильную демократию современности, все последние основой своей имели сильные централизованные государства, в кото рых абсолютистская власть закладывала основы национального суверенитета и торжества национального производителя.
То есть, демократия начинается не со срисовывания внешне привлекательных форм иных стран, демократия начинается с развития собственной экономики и про изводства.
Сама по себе демократия — не условие производственного прорыва. Она скорее является его продуктом и результатом. Собственно, как в свое время отмечал Д.А. Растоу1, демократия утверждается там и тогда, когда люди начинают ощу щать принесенные ею преимущества.
В самом недавнем прошлом Россия на протяжении всего четверти века столкну лась с двумя во многом разными, но по алгоритму осуществления схожими ситу ациями, когда, казалось бы, вызревшее в обществе понимание необходимости прорыва не было реализовано, а попытка такого прорыва дважды провалилась.
Это, во - первых, вторая половина 80 -х гг., когда при общем понимании того, что стране необходимо выйти на качественно иные - именно технологические - рубежи развития, ситуация сначала вылилась в бесконечные дискуссии о прошлом, окон чательно не завершенные и по сей день, и закончилась разрушением самой «модер-низируемой» системы.
При этом нужно учитывать, что подоб ный исход был прогнозируем. С одной стороны, если исходить из гипотезы, что для осуществления модернизации необ ходимо достижение общенациональ-ного консенсуса, то оспаривание широко утвердившихся историко ценностных смыслов заведомо могло разрушить ста рое согласие, но не привести к искомому консенсусу. С другой - согласия по отно шению к целям вообще легче достигнуть, чем по отношению к вопросам прошлого. Поэтому один из базовых постулатов тео рии понимания - это признание необхо димости ухода от детерминации прошлым к детерминации будущим.
Вторично в подобной же ситуации страна оказалась в 2008 г., когда на пер -вый план вновь вышла идея развития, позже обозначенная термином «модер низация». Совершенно или не совер-шенно было ее изначальное в и дение — но оно было конкретно и содержательно и производственно - экономически значимо: энергетика, ядерные технологии, инфор мационные технологии, космос, меди цинская промышленность.
Однако ни по одному из этих направле ний существенного прорыва достигнуто не было, и не было реальной попытки такой прорыв организовать. Под проры вом в данном случае понимается не харак тер темперамента, а уровень значимости достигнутого.
По сути дела, вместо даже дискуссии о том, что конкретно в производствен ном плане нужно сделать для достижения поставленных целей, была вновь развер нута дискуссия об изменении политиче ских и организационных форм.
И, как минимум, гипотетически можно выделить две возможные причины такого итога. Первая — это определенное доми- нирование в общественном сознании некого «детехнократизационного» начала, причем с определенной установкой на обсуждение такой политической и управ -ленческой организации, когда крупные достижения можно было бы осущест-влять без особых волевых напряжений и стрессов, в неком автономном процессе. То есть, желательно создать систему, при которой техника и экономика могли бы развиваться сами по себе, без участия представителей элиты в организации и направлении этого процесса.
Вторая гипотетическая причина заклю -чается в том, что решение конкретных производственных и технологических задач требует сосредоточения конкрет-ных ресурсов, а следовательно их моби лизации и перегруппировки, т.е. изъятия с одних направлений и концентрации на других. Отсюда возникают группы, кото -рые в результате такой перегруппировки окажутся вынужденными либо чем то жертвовать либо просто исчезнуть.
И они во многом и становятся субъектами сопротивления реальному движению и определенным — и психологическим, и информационным, и финансовым — спонсором организации процесса тор можения организационно технических действий по изменению производственно технологического содержания путем про ведения дискуссий о политической форме.
Любое наличное экономическое и про -изводственное состояние есть некое рас пределение ресурсов тех или иных видов. Любое движение, т.е. изменение и разви тие данного состояния, затрагивает инте ресы тех или иных групп.
Поэтому всегда модернизационный прорыв сталкивается с социальным сопротивлением. Отсюда вполне право мерна постановка вопроса о «ранних победителях», что отмечает в своей статье В.С. Комаровский1. Объективно в стране имеются, как минимум, три группы, чьи непосредственные интересы делают для них желательным и комфортным рестав рацию политических и организацион ных условий, существовавших в 90-е гг. Во первых, это те, кто уже тогда выиграл от перераспределения и присвоения соб ственности и объектов производства. И можно обратить внимание на тот факт, что недавнее возрастание численности протестующих произошло после того, как В.В.Путин а) публично поставил вопрос о нечестности проведенной в 90 е гг. при ватизации, б) поставил вопрос о рассле довании злоупотреблений менеджмента в сфере энергетики, во многом сформиро ванной под влиянием тех же людей, кото рые проводили и приватизацию, в) объя вил о начале борьбы с укрытием капита лов в оффшорах.
Вторая группа, заинтересованная в вос становлении отношений 90 х гг., - это те, кто составляет обслуживающий непроиз водственный потенциал первой группы - компаний и фирм, действующих в основном в непроизводственной сфере. И здесь можно обратить внимание на дан ные исследований ведущих социологиче ских центров, проведенных, в частности, среди участников митинга 25 декабря на проспекте Сахарова. Согласно данным Левада - Центра, 25% участников были вла -дельцами собственного бизнеса или руко водителями разного ранга, 46% — «специ-алистами», 8% — офисными работниками, 4% — работниками сферы услуг2. При этом данные ВЦИОМа по этому же митингу говорят о том, что 44% вышедших на него были не просто «специалистами», а спе циалистами коммерческих кампаний3.
Третья группа — это остатки массового политического класса 90 -х гг. Условия названного времени породили целую профессиональную группу политических активистов, для которых участие в тех или иных видах политической жизни стало и образом существования, и способом зара ботка. Сворачивание политической актив -ности, по разным причинам происшедшее в нулевых годах, лишило эту группу воз -можности своей собственной экономиче ской и жизненной самореализации. Они оказались неким подобием дружинников баронских армий периода смут, вынуж денных существовать в условиях мирной жизни.
Всем этим группам по тем или иным причинам невыгодна стабильность пер вого десятилетия ХХ в. и привлекателен лозунг модернизации, понимаемый как новая политическая пертурбация.
При этом можно заметить, что из четы рех основных лозунгов-брендов последней четверти века: «перестройка» (правление Горбачева), «реформа» (правление Ельцина), «стабильность» (первое правление Путина), «модернизация» (правление Медведева) позитивно реализовался лишь третий.
Сегодня в России, не говоря о более детальных, в т.ч. и принципиальных, различиях, сложилось два самых общих представления о будущем образе страны. Согласно одному из них, ее будущее должно заключаться в том, чтобы стать периферийной частью складывающегося мира, контуры и правила существования в котором определяются, условно говоря, западным миром. Согласно другому, она должна развиваться так, чтобы если и быть частью более общего мира, то, как минимум, являться самодостаточным конкурирующим фактором.
В первом случае она должна вписываться существующую мировую экономику, подчиняя ей своей экономическую деятельность. Во втором случае она должна создавать (воссоздавать) мощную самозначи-мую экономику. В первом случае первичными и доминирующими будут так или иначе посреднические сектора: финансовый, рекламный, торговый. Отчасти – сырьевой. Во втором – собственно производственные: научный, технологический, обрабатывающий.
Так, согласно данным Левада-Центра, доля выступающих за внешнеполитический курс, ориентированный на сближение с США, последовательно падает и сегодня насчитывает 15%.
При этом растет число как тех, кто хотел бы видеть будущую Россию социалистическим государством по типу ССССР (21 %), так и тех, кто хотел бы видеть ее особым государством, со своим особым путем (41%). Государством «западной демократии» ее хотели бы видеть 31% опрошенных1. Одновременно 41% респондентов определяют этот особый путь как «экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах “хозяев жизни”» и еще 20% – с учетом в политике духовной, моральной стороны отношений государства и граждан.
Этот момент естественно детерминирует разницу целей, интересов и приоритетных политических форм. Соответственно, крайне сложно увидеть здесь основание для консенсуса. Интересы групп, ориентированных на один вариант развития, явно противоречат интересам других.
В зависимости от поставленной цели будут разниться и политические формы. И это детерминирует также два особых обстоятельства. Первое заключается в том, что при такой разнице интересов и политикоэкономических устремлений, как минимум, излишне идеалистически выглядит предположение о возможном консенсусе. И не стоит недооценивать тот факт, что призывы к консенсусу во второй половине 80-х гг. лишь закамуфлировали игнорирование интересов и социокультурных предпочтений большинства граждан.
Второе состоит в том, что политические формы, обеспечивающие необходимость форсированного движения вперед, по определению не могут быть подчинены задачам постоянной дискуссии о цели движения. Они должны обеспечивать движение к этой цели.
Реальная модернизация начинается с создания национального производства, причем более сильного, чем в соседних странах. В противном случае любые модернизационные эксперименты закончатся утратой национальной самостоятельности.
В этом отношении сущность модернизации (или, в нынешней ситуации, обгоняющей модернизации, сверхмодернизации) сегодня – это уже не переход и тем более не возвращение к модерну как Новому времени XVII–XI X вв. Е е с у щ ность – в ставке на новое Просвещение, утверждение новой рациональности как научно-технической основы нового, уже не промышленного, индустриального, а информационного производства. То есть, ее цель – создание общества, где в производстве доминирует компонент производства знания, новых технологий. А для этого нужен технологический прорыв и создание новых, современных производств. Причем нужно учитывать, что сегодня «современность производства» – это не воспроизведение где-то существующего, а создание такого производства, которого еще нет ни у кого.