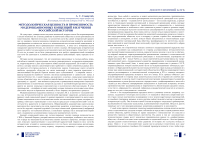Модернизационная парадигма российской истории методологическая ценность и применимость модернизационных концепций в изучении российской истории
Автор: Сенявский Александр Спартакович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 2 (4), 2006 года.
Бесплатный доступ
Модернизиционные концепции, модернизиционная парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/14723460
IDR: 14723460
Текст статьи Модернизационная парадигма российской истории методологическая ценность и применимость модернизационных концепций в изучении российской истории
Не существует универсальных научных концепций, которые могли бы непротиворечиво и полно объяснить все аспекты развития человеческого общества на всем протяжении его существования. Причин несколько, но достаточно хотя бы одной: исторический процесс еще не завершен, впереди возможны совершенно непредсказуемые варианты эволюции и трансформации человечества, вплоть до возникновения постчеловеческой цивилизации, и механизмы развития могут принципиально измениться... А пока что у историков задачи поскромнее прогностических, но оттого не менее сложные. Интерпретация исторического процесса требует весьма мощного методологического инструментария. Существует ли он? И если да, то может ли он быть универсальным, или требует принципиальной специфики или хотя бы адаптации к условиям развития разных цивилизаций, стран, народов, культур?
История науки показывает, что все концепции, применимые к сколько-нибудь широкой области знаний и претендующие на некую универсальность, со временем опровергаются, корректируются и даже вытесняются новой научной парадигмой. Но остаются «фрагменты», которые вполне удовлетворительно «работают» в строго очерченных рамках весьма простого естественно-научного и технического знания. Социальные науки остаются наиболее «размытой» областью, где смена концепций и даже парадигм происходит с ошеломляющей быстротой. Причем именно здесь субъективный - в широком смысле -фактор оказывается наиболее «весом», выступая одновременно и «двигателем» науки, и помехой. Потому что, с одной стороны, как намекнул «классик», социальные концепции не только объясняют мир, но и стремятся воздействовать на него (в том числе через интерпретацию), а с другой - они являются продуктом и проводниками конкретных социально-экономических и политических интересов, далеких от научной беспристрастности, оказываются во многом социально (идеологически и политически) обусловленными. В этом противоречии - специфика и таких концепций, которые пытаются использовать как объяснительные модели исторических явлений и, более широко, исторического процесса.
Модернизационная парадигма возникла в середине XX в. в контексте «холодной войны» как методологический (и идеологический) противовес марксизму, активно реализовавшему свой социальный проект (в разных вариантах и интерпретациях) по всему миру. Новым социальным полем стали многочисленные постколониальные страны, которым, например, советская и производные от нее модели предлагали «социалистический» путь из отсталости к развитости и современности. Оборонявшийся западный мир «капитализма» вынужден был представить им иную перспективу развития: в противном случае он оказался бы окружен «мировой деревней» (согласно маоистской терминологии), выбравшей путь прогресса «по-коммунистически», и неизбежно проиграл бы в конкурентной борьбе двух сложившихся альтернативных социально-экономических систем.
Данный «социальный заказ» дал толчок широкому спектру поисков специалистов из США и Западной Европы, который оказался весьма плодотворен, особенно в том смысле, что в сферу их внимания были вовлечены многие явления и процессы, которые оказывались невольно «пропущенными» в классической марксистской теории (в силу хотя бы исторических условий ее возникновения) и уж тем более неинтересными догматизированному и закосневшему к этому периоду «марксизму-ленинизму» и прочим его разно-
I ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ видностям. Само собой и «акценты» в новых концепциях расставлялись принципиально иные (обращение не к классовым противоречиям как внутренней «движущей силе» развития обществ, и прочим - ставшим почти «ритуальным» - постулатам марксизма, а прежде всего к стадиальным уровням материальной и социальной организации жизни, которые характеризуют движение обществ от традиционности к «современности», с попытками объяснить механизмы и особенности этого движения в разных странах и регионах мира). Несмотря на очевидную идеолого-политическую ангажированность в период становления модернизационная парадигма, безусловно, внесла в науку немало продуктивного и конструктивного. В центре внимания большинства концепций закономерно оказалось становление индустриального общества, путь к которому в разных странах был неодинаков по механизмам и асинхронен, но имел немало общих имманентных и сопутствующих параметров: изменение материальной базы общества, трансформация его институтов, эволюция социальной и экистической (поселенческой) структуры, системы ценностей и образа жизни населения и т. д.
Естественно, что теоретические поиски в контексте модернизационной парадигмы оказались под влиянием как конкуренции со стороны альтернативных методологических конструкций (цивилизационного подхода, миросистемного анализа и др.), так и собственно мировой динамики, характеризовавшейся радикальными сдвигами в технологической сфере (ряд стадий научно-технической революции и технологических переворотов во второй половине XX - начале XXI в.), а также изменений в расстановке фигур на «мировой шахматной доске» (неравномерность развития, проявившаяся в опережающей модернизации стран Восточной Азии, а также крахе мировой соцсистемы и развале СССР, сопровождавшихся потерей значительной части их модернизационного потенциала, приведших к отбрасыванию большинства постсоциалистических стран в ряды аутсайдеров и к потере ими цивилизационной и исторической субъектности). Фиаско квазимарксистского проекта, реализованного в социалистической альтернативе в XX в., подняло авторитет модернизационной парадигмы, которая к тому же к концу XX в. прошла «обкатку» длительной критикой со стороны иных концептуальных моделей, устранив или смягчив наиболее уязвимые элементы своей теоретической конструкции (одновекторность развития, проявляющаяся в почти фаталистическом «прогрессизме»; унифицированность моделей и стадий для всех обществ, игнорирование уникальности и недостаток историзма; жесткое противопоставление традиционализма и современности; абсолютизация западного опыта, в том числе «образцовости» западной либерально-демократической модели) и ассимилировав из них ряд «стыкующихся» элементов.
Вместе с тем модернизационная парадигма имеет и уязвимые аспекты, например, схематизм, «заданность» некоторых постулатов. С ее позиций не объяснить потрясения многих стран и целых континентов, возникающие в силу межгосударственных противоречий, и способных (например, мировые и иные крупные войны) изменить вектор их развития и историческую судьбу. Она в значительной степени игнорирует социальные противоречия, выливающиеся в социальные катаклизмы, в революционные потрясения. Немало и других уязвимых мест, хотя модернизационные концепции развиваются и дополняются.
С моей точки зрения, ключевым элементом модернизационного подхода является именно смена технологических укладов, которые собственно и определяют стадию развития конкретного общества, причем отнюдь не прямо связанную с совокупностью его смыслов и ценностей, структур и общественных институтов. На одном и том же «доминантном» технологическом уровне могут находиться принципиально разные по «конфигурации» общества, а близкие или даже почти одинаковые по социальной модели - быть на принципиально разном технологическом витке развития. В истории это случалось отнюдь не редко. Одни и те же технологические задачи могли решаться существенно или даже принципиально разными способами. Нет никакой предопределенности в том, чтобы иере ям Ш ход, например, к «постиндустриальному» обществу непременно сопровождался максимальным развитием институтов «демократии» по типу западных моделей (которые, кстати, и в конкретных западных странах все-таки существенно различаются). Некоторый телеологизм и эволюционный «фатализм», предопределенность имманентно присущи модернизационному подходу, причем не только в «классических» концепциях 1950 -1960-х гг. Но развитие общества непредсказуемо: на взлете может случиться социальная (или природная, или даже планетарная) катастрофа, а, казалось бы, обреченные на прозябание страны и общества могут неожиданно и «невероятно» (для модернизационных «наблюдателей») вырваться вперед. Здесь достижения синергетики как объяснительный инструментарий могут оказаться куда продуктивнее модернизационных схем.
Что ценного и позитивного внесла модернизационная парадигма в изучение собственно российской истории? Главное, на что она нацеливала внимание исследователя, это единство задач российского общества в контексте разных исторических эпох в рамках XIX и XX вв., а именно при переходе от традиционного аграрного к индустриальному и городскому обществу. Историческая обусловленность данной объективной задачи имела двоякую природу: не только имманентно присущие России внутренние условия, но и - нередко по преимуществу - внешне обусловленные факторы. Вынужденность модернизации, догоняющий ее характер, с одной стороны, привязывают внутрироссийские явления к мировым процессам, а с другой - протягивают «связку» между столь различными эпохами дореволюционной и советской истории, характеризуют диалектику прерывности-непрерывности. Это позволяет понять, почему, например, именно большевики - левые радикалы-экстремисты, политические маргиналы в российском обществе - оказались вдруг вершителями судеб страны и проводниками модернизации по-советски. Модернизационная парадигма, безусловно, весьма способствует пониманию парадоксальности русской революции и русского пути в XX в., хотя она одна не может объяснить их адекватно и во всей полноте.
Как бы ни была велика ценность модернизационной парадигмы в качестве методологического инструмента в исследовании российской истории, она относительна, а применимость ее имеет свои ограничения. Реальные исторические исследования не могут быть уложены в прокрустово ложе никаких заранее сконструированных концепций. Они являются скорее лишь ориентиром, «списком вопросов» (причем далеко не исчерпывающим), которые исследователь может прилагать к историческому материалу, чем готовой «матрицей», под которую можно подвести любое уникальное явление. А история в любом ее временном, территориальном, социальном, антропологическом сегменте уникальна.
Нельзя использовать ни одну из существующих сегодня теоретических конструкций для интерпретации российской истории «в чистом виде». Необходим некий системный или синтетический подход, который учитывал бы и социокультурное своеобразие страны, и стадию ее развития в материальных и социальных проявлениях, и пространственный срез социальной организации, и динамику демографического потенциала общества, и включенность страны в комплекс мировых связей по основным параметрам, и фактор случайности разной природы, способный спровоцировать катастрофу или радикальную трансформацию, казалось бы, «на пустом месте», и многое другое. Именно принципиальная «невместимость» истории в прокрустово ложе концептуальных схем позволяет отнести труд историка не только к сфере науки, но и к своего рода искусству (в том числе искусству поиска адекватного инструментария интерпретации исторического материала). Модернизационные концепции - лишь часть инструментария историка, который, как и хирург, может выбирать из намного более широкого набора инструментов для проведения конкретных исследовательских операций, причем этот набор непрерывно пополняется, модифицируется и совершенствуется.
■ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
А. М. Курышов, кандидат исторических наук доцент, Байкальский государственный университет экономики и права (г. Иркутск)
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИБИРСКОЙ ОБЩИНЫ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в. В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
...Европеизация так же, как норманны и монголы, не составляет основного явления нашего исторического развития.
Н.П. Павлов-Сильванский
Теория модернизации в современной исторической науке стала настолько обычным методологическим принципом новой и новейшей истории, что вошла в школьные учебники. Сквозь призму модернизации рассматривается и экономическое, и политическое развитие России во второй половине XIX - начале XX в. Оно предстает как совокупность процессов, утверждающих в России рыночные отношения и политический либерализм.
Модернизация, по сути, рассматривается как превращение традиционных, уникальных и своеобразных обществ в общества индустриальные, развивающиеся по определенным законам и имеющие лишь историческую и географическую специфику. Обращение историков к теории модернизации в связи с этим понятно, - она позволяет придать историческому процессу ту линейность, тот необратимый прогрессивный характер, сформулировать те универсальные законы общественного развития, на основании которых можно отстаивать научность исторических исследований и давать отпор тем, кто считает историческую науку лишь литературным жанром.
Даже при поверхностном взгляде процессы общественного развития в разных странах обнаруживают некоторую асинхронность, объясняемую различными темпами и формами модернизации, т. е. тем, что свидетельствует об органической связи традиции и модернизации. Это, в свою очередь, должно предполагать различные варианты модернизации, в том числе в той ее части, которая заключает цели.
Экономическая модернизация связывается с трансформацией традиционного хозяйства как системы в хозяйство индустриальное. В широком смысле трансформация - это любое изменение. Но изменения бывают разные: они могут касаться формы и содержания явления, связей системы и непосредственно ее элементов, они могут придать системе новое интегративное качество, а могут совершенно ее разрушить. Если мы говорим о трансформации как об изменении системы, мы тем самым признаем ее сохранение в результате трансформационных процессов. Если мы заведомо признаем трансформацию превращением, следует признать, что система перестает существовать, по крайней мере в прежнем виде. Обе позиции грешат тенденциозностью, поскольку общий результат трансформации, достигнутая ею цель заранее предопределены выбором толкования термина.
Разумный подход к идентификации трансформации должен быть основан как раз на обратном - на определении цели процесса. «Единство вырастает из смысла, к которому движется история, смысла, который придает значение тому, что без него было бы в своей разбросанности ничтожным»1.