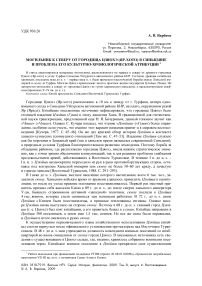Могильник к северу от городища Цзяохэ (Яр-Хото) в Синьцзяне и проблема его культурно-хронологической атрибуции
Автор: Варнов Андрей Васильевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются материалы могильника, расположенного на террасе к северу от древнего городища Цзяохэ (Яр-хото) в уезде Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Согласно древним китайским хроникам, последние века до н. э. - первые века н. э. были временем ожесточенной борьбы между Ханьской империей и сюнну за Турфан. Могилы Цзяохэ принадлежат знати и простым людям государства Цзюйши (Чэши). Но датируется могильник к северу от городища Цзяохэ не гунно-сарматским (ханьским), а предшествующим скифским временем (V-IV вв. до н. э.).
Китай, археология, синьцзян (восточный туркестан), турфан
Короткий адрес: https://sciup.org/14737976
IDR: 14737976 | УДК: 930.26
Текст научной статьи Могильник к северу от городища Цзяохэ (Яр-Хото) в Синьцзяне и проблема его культурно-хронологической атрибуции
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-01-00309а) «Хронология погребальных памятников VII–III вв. до н. э. кочевников Саяно-Алтая и Китая».
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © А. В. Вар¸нов, 2009
в 16 г. н. э., и этот район снова более чем на полстолетия попадает в руки сюнну . С новой силой борьба за Цзюйши разгорелась уже в 70-х гг. I в. н. э., а к 91 г. н. э. китайцам удалось достичь здесь значительного превосходства над сюнну . В последующие десятилетия события развивались с переменным успехом: в 107 г. н. э. Восточный Туркестан был оставлен Китаем, но в 112 г н. э. Цзюйши вновь на некоторое время становится вассалом Хань. В целом, по данным китайских хроник, владение Цзюйши-Гуши в период правления династии Хань находилось в зависимости от Китая в 89(108?)-87/86 гг. до н. э., 72 г. до н. э.-16 (23?) г. н. э., 73-77, 91-107, 112, около 129, 124-153(?) гг. н. э. [Кучера, 1977. С. 52].
Спорадически археологические работы в районе Цзяохэ (Яр-хото) велись с начала прошлого века, однако основную массу находок составляли средневековые древности. В первой половине 90-х гг. XX в. на городище Цзяохэ работала совместная китайско-японская археологическая экспедиция под эгидой ЮНЕСКО. Предварительные сообщения о ходе раскопок публиковались в китайской археологической периодике [Ду Гэньчэн, 1998; Ян Июн, 1999], полностью результаты исследований за 1993–1994 гг. увидели свет в 1998 г. [Городище Цзяохэ, 1998]. Информация об этих работах была опубликована нами на русском языке год спустя, т. е. предельно оперативно [Варёнов, Шойдина, 1999]. На самом городище исследовались поселенческие и храмовые комплексы эпохи средневековья, но в числе других объектов экспедицией был изучен и издан могильник к северу от городища, принадлежавший, как считается, знати Цзюйши ( Гуши ) и датированный тогда эпохой Хань. В китайской археологической литературе он именуется «могильник Гоубэй» (т. е. буквально: «могильник к северу от оврага» - имеется в виду овраг, отделяющий городище от окружающей местности).
В конце 90-х гг. XX в. у зарубежных специалистов по археологии Синьцзяна порой складывалось впечатление, что китайские коллеги в данном регионе исследовали в основном степные культуры эпохи бронзы и скифо-сакского времени, а гунно-сарматскому времени внимания практически не уделяли. Возможная причина заключалась в том, что, по признанию отечественных ученых, среди известных археологических памятников Восточного Туркестана выделить комплексы, относящиеся к кочевым культурам гунно-сарматского времени, оказалось достаточно сложно [Худяков, 1999. С. 152-153]. Выход виделся в обращении к археологическим памятникам тех районов Синьцзяна, где длительное присутствие хунну ( сюнну ) зафиксировано по данным китайских хроник. В частности, речь могла бы идти о городище Цзяохэ (Яр-хото) в Турфанской впадине. Не случайно, что первые сообщения о раскопках в окрестностях Цзяохэ (Яр-хото) погребальных комплексов, датированных китайскими учеными ханьской эпохой (т. е. гунно-сарматским временем), вызвали среди российских специалистов всплеск интереса к ним именно в контексте гуннской проблематики [Варёнов, Шойдина, 2000; Молодин, Кан Ин Ук, 2000]. Между тем с культурно-хронологической атрибуцией могильника к северу от городища Цзяохэ (Яр-хото) все оказалось далеко не так просто.
Прежде всего, могильник изучен не целиком. Исследовано три участка: два вокруг больших курганов М16 и М01, расстояние между которыми не менее 40 м по линии запад-восток, а третий раскоп расположен примерно в 100 м к югу от кургана М01. Конструктивно большие курганы состоят из трех частей: каменной насыпи с диаметром в основании от 15 м (М01) до 26 м (М16) и высотой 1–1,4 м от современной поверхности; расположенной в центре кургана круглой ограды диаметром 10,2–10,3 м, сложенной из сырцового кирпича; и находящейся внутри ограды погребальной камеры глубиной от 4,76 м (М01) до 9,16 м (М16). Расположенная в земле погребальная камера укреплялась конструкцией из деревянных балок. Помимо главной, в кургане могла быть и боковая камера. На участке вокруг М01 раскопано 15 могил и 22 жертвенные ямы с лошадьми; вокруг М16 - 9 могил и 23 жертвенных ямы с лошадьми или верблюдами, а остальные могилы - на южном раскопе. Китайские археологи называют могилы, расположенные вокруг больших курганов, «сопроводительными», хотя их стратиграфическая и планиграфическая взаимосвязь с большими курганами отнюдь не очевидна. Напротив, жертвенные ямы с лошадьми или верблюдами (в плане круглые или овальные, с диаметром устья около 1 м и глубиной свыше 1 м, вертикальными стенками и ровным дном) вытянуты в цепочки и содержат от 1 до 4 животных каждая. Таким образом, каждый большой курган сопровождало несколько десятков лошадей.
Всего вскрыто 55 погребений и 55 жертвенных ям с лошадьми или верблюдами. Большинство могил ориентировано по линии запад-восток, и только отдельные - по линии север-юг. Преобладают вытянутые трупоположения с прямыми конечностями. Лишь незначительное количество умерших захоронено с согнутыми конечностями. Тридцать пять могил - это совместные захоронения, 14 - одиночные, а остальные 6 настолько сильно потревожены, что не поддаются определению. Из 35 совместных захоронений 20 - парные погребения мужчины и женщины, еще в 14 случаях к ним добавлен ребенок, и только в одной могиле похоронено сразу 6 человек. По способу устройства все могилы можно разделить на захоронения в вертикальных грунтовых ямах (43 погребения) и захоронения в вертикальных ямах с подбоями (12 погребений). Подбои в основном расположены с южной стороны могилы, ниже дна входной ямы. Выделяются три разновидности внутримогильных конструкций: травяная подстилка на дне ямы, с перекрытием ее устья деревянным навесом (настилом); деревянный гроб; так называемое погребальное ложе.
Большинство захоронений могильника к северу от Цзяохэ ограблено, в них мало что сохранилось, только в некоторых найдены обломки дерева от внутримогильных конструкций и разрозненные вещи. Железные изделия представлены оружием (чекан, наконечники стрел, ножи), лошадиными удилами и подпружными пряжками, мелкими украшениями. Среди бронзовых вещей найдены китайская монета у-шу (у-чжу ), два бронзовых зеркала с боковыми ручками и подвеска (костылек) в виде волчьей головы. Золото встречается в виде фольги, обернутой вокруг бронзовых украшений, изображающих верблюдов, схватку тигра и грифа, шестилепестковую розетку и т. п. Есть золотая фигурка оленя (?), составленная из двух соединенных половинок, и литое серебряное перекрестье ремней в виде скульптурной головки быка или буйвола на ажурном основании. Изделия из резной кости служили в основном в качестве разного рода застежек в конской сбруе и украшений. Деревянные изделия использовались в быту и в погребальной практике. Примечательны находки деревянных идолов, шкатулок, пряжек, основ для зеркал с ручкой (для вставки бронзовых пластинок), приборов для добывания огня, деревянных моделей ножа и трехгранного наконечника стрелы с расщепленным насадом.
Керамика включает около 50 целых или поддающихся восстановлению сосудов. Большинство из них из красной керамики с примесью песка, небольшое количество - из серой керамики. Все сосуды ручной лепки, некоторые сохранили следы лощения, но преобладают изделия с необработанной поверхностью. Расписной керамики мало. Есть посуда, покрытая красной или желтой глиняной обмазкой. Большинство сосудов плоскодонные. Среди форм встречаются горшки гуань , котлы фу , бокалы бэй , чаши бо , миски пэнь , бутыль пин и др. Китайские археологи разработали достаточно дробную классификацию керамики могильника Цзяохэ [Варенов, Бауло, 2003. С. 295-298]. Они считают ее местной, турфанской, характерной для знати и рядовых жителей Цзюйши. Действительно, керамика Цзяохэ (Яр-хото) не похожа ни на сюннускую, ни на ханьскую. Анализ распределения разных форм керамики, как и иных категорий инвентаря, по большим курганам и рядовым могилам мог бы помочь уточнить их культурно-хронологическую атрибуцию.
Китайские археологи датируют могильник Цзяохэ путем сопоставления его с другими турфанскими памятниками - могильниками Янхай, Субэйши, Айдинху. Могильник Субэйши имеет радиоуглеродную дату 2220±70 лет назад. На могильнике Цзяохэ из разведочных траншей в раскопах вокруг курганов М01 и М16 получено по одной радиоуглеродной дате: для более раннего М16 2154±52 года назад (178 г. до н. э. - 36 г. н. э. после дендрохронологической калибровки) и для более позднего М01 1594±61 год назад (431-602 гг. н. э. после калибровки). Последнюю дату сами китайские исследователи называют «судя по содержанию находок, слегка омоложенной», из чего делают вывод: «не боясь большой ошибки, можно считать, что дата могильника, похоже, должна относиться к ханьской эпохе» [Городище Цзяохэ, 1998. С. 71]. Действительно, в одной из могил близ кургана М01 найдена ханьская монета у-чжу , отливавшаяся начиная со 118 г. до н. э. Однако эта единичная находка не может определять возраст всех остальных погребений Цзяохэ, а образцы, взятые для радиоуглеродного анализа, судя по китайскому отчету, получены вообще не из могил. Учитывая потревоженность практически всех захоронений Цзяохэ, дата «431-602 гг. н. э.» может относиться не ко времени создания, а ко времени ограбления кургана М01.
Китайские археологи считают культуру могильника Цзяохэ местной, но выделяют в ней заимствованные вещи (преимущественно художественные изделия). Золотую пластину со сценой борьбы тигра и грифа, золотую фигурку оленя (?), бронзовую поясную подвеску в виде волчьей головы они относят к «степной культуре ордосского стиля» (принятый в Китае термин для искусства скифо-сибирского круга) [Там же. С. 73]. В целом с такими выводами можно согласиться, но следует уточнить, что эта «степная культура» должна датироваться в основном не ханьским (т. е. гунно-сарматским), а предшествующим скифо-сакским временем. По способу устройства рядовые погребения Цзяохэ заметно отличаются от хунну-ских из Забайкалья (см.: [Коновалов, 1975]). Принадлежавшие знати крупные курганы также не похожи (см.: [Коновалов, 1974; Полосьмак, Богданов, Цэвэндорж, Эрдэнэ-Очир, 2008]). Совершенно различна керамика двух регионов, но это и не удивительно. Еще А. В. Давыдова отмечала, что «в тех районах Сибири и Центральной Азии, где хунну установили свое господство, были восприняты многие формы их металлических, главным образом, бронзовых изделий, но при этом покоренные народы сохранили свои формы и орнаментацию глиняной посуды» [1985. С. 43]. Между тем в Цзяохэ нет даже бронзовых украшений, типичных для сюнну , таких как поясные пластины-пряжки и ложечковидные застежки [Миняев, 1981. С. 81].
Аналогии художественным изделиям Цзяохэ найдены нами в погребениях пазырыкской культуры Горного Алтая, в памятниках степной части Алтая, в таких известных собраниях скифо-сакских древностей, как Сибирская коллекция Петра I и Амударьинский клад [Варё-нов, 2008. С. 147–149]. Тщательный анализ комплексов из Цзяохэ позволяет уточнить их датировку. Наиболее ранним для скифского времени в Цзяохэ является курган М16(2). Он соотносится с первым этапом пазырыкской культуры и предварительно датируется первой половиной V в. до н. э. [Шульга, Варёнов, 2008. С. 282–285]. Материалы большинства остальных богатых погребений из Цзяохэ (М28, М27 и отчасти М01) синхронизируются по роговым сбруйным наборам с комплексами, найденными в Горном Алтае и на равнине Алтайского края, и относящимися ко второй половине IV в. до н. э. [Там же. С. 284–285]. Что касается проблемы присутствия сюнну в Цзяохэ (об этом, как уже упоминалось, есть прямые свидетельства письменные источников), то в этих источниках нет никаких указаний на то, что сюннуские воины, неоднократно оккупировавшие Цзяохэ, были выходцами именно из Забайкалья и / или Монголии, особенно если учесть род их деятельности – «занятия полевыми работами». А данные палеоантропологии по Цзяохэ отсутствуют, в силу плохой сохранности костного материала. Кроме того, сюннуские погребения могут оказаться где-то рядом. В частности, материалы могильника к западу от городища Цзяохэ (могильника Гоуси) демонстрируют гораздо большее количество монет у-чжу и украшения гунно-сарматского времени [К западу от Цзяохэ, 2001], хотя отдельные вещи скифо-сакского облика там тоже присутствуют [Молодин, Канн Ин Ук, 2000. С. 91, 97].
BURIAL GROUND TO THE NORTH OF THE ANCIENT CITY OF JIAOHE (YAR-HOTO) IN XINJIANG AND THE PROBLEM OF ITS CHRONOLOGICAL AND CULTURAL ATTRIBUTION