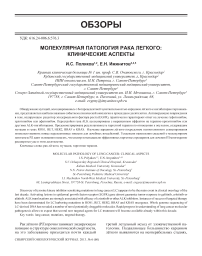Молекулярная патология рака лёгкого: клинические аспекты
Автор: Поляков И.С., Имянитов Е.Н.
Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 6 (60), 2013 года.
Бесплатный доступ
Обнаружение мутаций, ассоциированных с беспрецедентной чувствительностью карцином лёгкого к ингибиторам тирозинкиназ, представляется наиболее важным событием клинической онкологии в прошедшем десятилетии. Активирующие повреждения в гене, кодирующем рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), практически гарантируют ответ на лечение гефитинибом, эрлотинибом или афатинибом. Перестройки гена ALK ассоциированы с выраженным эффектом на терапию кризотинибом или другими ALK-ингибиторами. Продемонстрирована результативность таргетной терапии по отношению к опухолям, содержащим мутации в генах ROS1, RET, HER2, BRAF и KRAS. Изучение карцином лёгкого посредством полногеномного секвенирования позволило выявить новые перспективные мишени для лечебных воздействий. Тенденции накопления сведений о молекулярном патогенезе РЛ дают основания полагать, что спектр потенциально эффективных таргетных препаратов для лечения РЛ многократно расширится уже в этом десятилетии
Рак лёгкого, мутации, таргетная терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14056381
IDR: 14056381 | УДК: 616.24-006.6:576.3
Текст обзорной статьи Молекулярная патология рака лёгкого: клинические аспекты
Рак лёгкого (РЛ) прочно занимает лидирующую позицию в структуре онкологической смертности, на это заболевание приходится почти каждый третий летальный исход от злокачественной патологии. Подавляющее большинство карцином лёгкого выявляются на неоперабельных стадиях, это приводит к тому, что средняя продолжительность жизни при РЛ измеряется месяцами. Тем не менее за последние 10 лет в торакальной онкологии произошли события, в корне изменившие ситуацию, по крайней мере, для некоторых пациентов. Прорыв в лечении определённых разновидностей РЛ связан исключительно с успехами молекулярной онкологии.
EGFR
Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR, epidermal growth factor receptor) является одним из наиболее «универсальных» онкогенов, он экспрессируется в избыточных количествах практически во всех злокачественных опухолях эпителиального происхождения. Неудивительно, что EGFR стали относить к числу самых перспективных опухолевых мишеней сразу после обнаружения его причастности к канцерогенезу. К началу 2000-х гг. в распоряжении исследовательских отделов крупнейших фармацевтических компаний имелось несколько антагонистов EGFR, предназначенных для клинических испытаний. Первым препаратом, допущенным к систематическим опытам на человеке, стала Иресса (Iressa, gefitinib, гефитиниб). В качестве наиболее пригодной разновидности опухолей для начальных испытаний Ирессы был выбран рак лёгкого, одним из оснований для подобного решения являлся тот факт, что гиперэкспрессия EGFR наблюдается примерно в 80–85 % РЛ. Существенную роль в этом выборе сыграли результаты исследования I фазы, зафиксировавшие объективный ответ на лечение у 4 из 16 пациентов с РЛ [55]. Последующие клинические испытания II фазы, выполненные на химиорезистентных больных, подтвердили эффективность гефитиниба, что послужило основанием для ускоренной регистрации препарата [8, 15]. К сожалению, последующие исследования III фазы закончились неудачей, оказалось, что, вопреки ожиданиям, добавление гефитиниба к первой линии терапии не улучшает результатов лечения [18, 21]. Создатель препарата, фармацевтическая компания AstraZeneca, была вынуждена отозвать лицензию на применение Ирессы в США. Тем не менее практически все специалисты признавали, что у отдельных пациентов, включённых в клинические исследования гефитиниба, наблюдался исключительный по степени выраженности и длительности эффект от приёма препарата [5]. Этот феномен удалось разгадать в 2004 г. Сразу 3 группы учёных выполнили секвенирование гена EGFR, используя в качестве источника ДНК опухолевую ткань от гефитиниб-чувствительных и гефитиниб-резистентных больных. Оказалось, что практически все ответившие на терапию опухоли содержат ранее неизвестные мутации EGFR, в то время как в контрольной группе подобных генетических событий не наблюдалось [35, 50, 52].
Мутации EGFR относительно легко детектировать, подавляющее большинство из них представлено либо делециями 15 пар оснований в экзоне 19, либо нуклеотидной заменой в кодоне 858. Тест на мутацию EGFR обладает непривычным для клинической онкологии уровнем предиктивной значимости: присутствие данного события практически гарантирует ответ на лечение, в то время как в случаях с нормальной последовательностью EGFR регрессы новообразований отмечаются крайне редко [35, 50, 52]. Мутации EGFR наблюдаются преимущественно в аденокарциномах, причём чаще у некурящих больных и представителей азиатской расы [63]. Принято подчёркивать, что данные события преобладают у женщин; однако это положение представляется верным лишь с формальной точки зрения. Действительно, частота мутаций в опухолях значительно выше у женщин, однако данная особенность вызвана не биологическими различиями в патогенезе РЛ между мужчинами и женщинами, а исключительно разницей в соотношении курильщиков и некурящих. У мужчин, заболевших аденокарциномой лёгкого, большинство составляют курильщики; напротив, среди пациентов-женщин наблюдается выраженное преобладание некурящих. Именно анамнез курения, а не пол, является главным фактором, ассоциированным с вероятностью обнаружения мутации EGFR. Частота повреждений EGFR у российских пациентов с аденокарциномой лёгкого составляет примерно 20 %; каждый третий некурящий больной с железистым РЛ характеризуется активацией EGFR и, следовательно, является кандидатом на лечение ингибиторами данного рецептора [43].
Многочисленные клинические испытания убедительно продемонстрировали, что применение ингибиторов EGFR у больных с мутациями сопровождается значительно большей частотой объективных ответов и увеличением времени до прогрессирования заболевания по сравнению со стандартной химиотерапией. Эти наблюдения справедливы для Ирессы, а также для аналогичного препарата – Тарцевы (Tarceva, erlotinib, эрлотиниб) [19, 43]. Появление Ирессы и Тарцевы позволило увеличить общую продолжительность жизни пациентов с метастатическим РЛ более чем вдвое, в большинстве исследований медиана этого показателя приближается к 2,5 годам. Примечательно, что исключительно выраженный эффект наблюдается вне зависимости от линии терапии – хорошие результаты получены как у хемонаивных больных, так и у пациентов, принимающих ингибиторы EGFR после приобретения опухолью резистентности к цитостатикам. Последовательность применения Ирессы или Тарцевы и химиотерапии не влияет на общую продолжительность жизни при диссеминированном РЛ, поскольку антагонисты EGFR и цитостатические препараты обладают разным механизмом действия [15, 23, 28, 36, 42, 44, 57]. Исключительно высокая вероятность ответа на гефитиниб или эрлотиниб у больных с мутацией позволяет использовать эти препараты для предоперационной терапии [30]. Интересной особенностью Ирессы и Тарцевы является молниеносный симптоматический эффект у пациентов с повреждением рецептора эпидермального фактора роста, а также быстрое снижение накопления глюкозы при ПЭТ [65, 66]. Как и следовало ожидать, адъювантное применение гефитиниба и эрлотиниба у оперированных больных с мутациями EGFR также продемонстрировало многообещающие результаты [9].
Недавно Sequist et al. [59] опубликовали результаты рандомизированного исследования нового тирозинкиназного ингибитора – афатиниба, авторы сравнивали его активность с комбинацией цисплатин + пеметрексед в первой линии терапии РЛ. Афатиниб (afatinib, Gilotrif, Tomtovok, Tovok) является «пан-HER» ингибитором, проявляя активность по отношению ко всем тирозинкиназам семейства рецептора эпидермального фактора роста – EGFR (ERBB1, HER1), ERBB2 (HER2) и ERBB4 (HER4). Афатиниб также демонстрирует наибольший эффект по отношению к опухолям лёгкого, содержащим активирующие мутации EGFR. У пациентов с наиболее изученными мутациями – микроделециями в экзоне 19 и нуклеотидными заменами в кодоне 858 – время до прогрессирования составило 13,6 мес по сравнению с 6,9 мес в группе химиотерапии.
Благодаря выраженной клинической значимости мутации EGFR стали излюбленным объектом для исследований различных аспектов молекулярного патогенеза РЛ. Большой массив данных накоплен в отношении механизмов резистентности к ингибиторам EGFR, приобретаемой в процессе лечения Ирессой или Тарцевой. Закономерности, наблюдаемые для этих препаратов, отражают общие принципы эволюции химиорезистентных опухолевых клонов. Например, в ходе лечения более чем у половины пациентов регистрируется селекция клеток, содержащих вторую мутацию в гене EGFR – T790M [47, 72]. Эта замена ассоциирована с конформационными изменениями рецептора; считается, что новый ингибитор мутированного EGFR – афатиниб – может проявлять активность по отношению к опухолям с мутацией T790M. Однако отдельные клинические наблюдения за больными с приобретённой резистентностью к гефитинибу или эрлотинибу пока не дают убедительных клинических подтверждений подобной активности [26, 40]. Другим характерным механизмом утраты опухолевой чувствительности к ингибиторам EGFR считается активация параллельных сигнальных каскадов. Например, в процессе лечения гефитинибом или эрлотинибом может наблюдаться появление клеточных клонов, содержащих амплификацию рецепторной тирозинкиназы MET. Ожидается, что подобные карциномы могут оказаться чувствительными к лечению MET-ингибиторами. Интересной особенностью процесса приобретения резистентности к антагонистам EGFR является метаплазия опухоли, установлено, что в некоторых случаях РЛ приобретают гистологические свойства мелкоклеточного рака [47, 72]. Если гефтиниб/ эрлотиниб-резистентный РЛ удаётся какое-то время контролировать при помощи химиотерапии, вероятность эффекта от повторного назначения тирозинкиназного ингибитора представляется довольно высокой. Так, в исследовании Oh et al. [48] при возврате к гефитинибу в третьей линии терапии у 5 (22 %) из 23 пациентов снова наблюдался объективный ответ, у 10 (43 %) – стабилизация заболевания.
Мутационный статус EGFR интенсивно изучался на предмет внутриопухолевой гетерогенности. Трудно отрицать существование единичных ситуаций, при которых мутация EGFR наблюдается в одном участке опухоли, но отсутствует в другом.
Систематический анализ доступных исследований показывает, что истинная гетерогенность в отношении статуса EGFR наблюдается исключительно редко [24, 38]. Таким образом, для информативного анализа EGFR вполне достаточно исследовать один образец от каждого пациента, вне зависимости от времени забора материала (на момент операции или при возникновении отсроченного рецидива) и его локализации (первичная опухоль или метастаз).
Интересно, что мутации EGFR иногда являются наследственными. У некоторых индивидуумов наблюдается носительство аллеля EGFR T790M, по-видимому, оно сопряжено с увеличением риска РЛ [49]. Van Noesel et al. [70] недавно описали редкое клиническое явление – семью с выраженной генетической предрасположенностью к раку лёгкого. Интересно, что оба поражённых члена семьи (мать и дочь) страдали от плоскоклеточного РЛ, а в их геноме обнаружилась наследуемая активирующая замена в рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR R776H).
ALK
ALK является второй специфической мишенью, выявленной в опухолях лёгкого. Ген ALK кодирует рецепторную тирозинкиназу, однако механизм её мутационной активации отличается от такового при EGFR. ALK может приобретать онкогенные свойства вследствие транслокации. Если в норме ферментативная активность ALK контролируется участками белка, расположенными в начале его аминокислотной последовательности, то в случае перестройки каталитический домен ALK оказывается прикреплённым к совершенно другой молекуле (чаще всего – к фрагменту белка EML4). В результате этого ALK теряет способность подчиняться физиологической регуляции и начинает непрерывно посылать пролиферативные сигналы [53].
Перестройки ALK в карциномах лёгкого были идентифицированы в 2007 г. [64]. К этому времени уже имелись экспериментальные ингибиторы ALK, поэтому первые результаты клинических испытаний появились спустя всего 3 года. В 2010 г. Kwak et al. [29] опубликовали данные о лечении кризотинибом (crizotinib, Xalkori, Ксалкори) 82 пациентов с ALK-позитивным РЛ. В этом исследовании 47 (57 %) больных РЛ демонстрировали объективный ответ на лечение, а 27 (33 %) – стабилизацию заболевания. Применение кризотиниба достоверно увеличивает продолжительность жизни ALK-позитивных больных [6, 62]. Shaw et al. [61] недавно представили результаты рандомизированного испытания, в котором ингибитор кризоти-ниб сравнивался со стандартной химиотерапией (пеметрексед или доцетаксел) во второй линии паллиативного лечения ALK-ассоциированного рака лёгкого. Эффективность кризотиниба заметно превосходила таковую при стандартном лечении: частота ответов составила 65 % по сравнению с 20 %, время до прогрессирования – 7,7 мес по сравнению с 3,0 мес. Клинические испытания других ингибиторов ALK продемонстрировали сходные результаты [10, 58, 60].
Перестройки ALK, так же как и мутации EGFR, наблюдаются преимущественно в железистых опухолях. Встречаемость транслокаций ALK в несколько раз ниже по сравнению с повреждениями EGFR, большинство авторов приводят показатели 3–7 % в отношении аденокарцином и 2–5 % – для «случайных» выборок РЛ. Транслокации ALK чаще наблюдаются у некурящих больных, при этом наибольшая вероятность их выявления отмечается для молодых пациентов [14, 46, 53]. В ходе лечения ингибиторами ALK происходит селекция устойчивых опухолевых клонов, механизмы резистентности включают появление вторых мутаций в тирозинкиназе ALK, увеличение её копийности, а также запуск альтернативных сигнальных путей [12, 60, 68].
Методические аспекты выявления транслокаций ALK представляют определённые сложности и остаются предметом для дискуссий. Проблема заключается в многообразии возможных транслокаций, при этом может варьировать не только точка разрыва в пределах гена ALK, но и ген-партнёр, с которым происходит обмен генетическим материалом. Наиболее стандартным методом ALK-диагностики, использовавшимся во всех регистрационных исследованиях кризотиниба, является флуоресцентная гибридизация in situ (FISH, fluorescent in situ hybridization). В качестве зондов утилизируются фрагменты ДНК, комплементарные 5’- и 3’-последовательностям гена и окрашенные в разные цвета. В норме 5’- и 3’-зонды расположены в пределах одного гена, поэтому при визуализации морфологического препарата цветные метки располагаются рядом или наслаиваются друг на друга. В случае транслокации 5’- и 3’-участки гена ALK оказываются физически разъединёнными, что проявляется изолированным расположением меток. В англоязычной литературе данный принцип выявления транслокаций получил название break-apart assay. FISH способен детектировать все варианты транслокаций, но не способен идентифицировать тип перестройки. Широкое использование FISH затрудняется высокой стоимостью соответствующих диагностических тест-систем, а также непригодностью этого метода для автоматизации. В качестве альтернативы FISH предлагается использовать различные разновидности полимеразной цепной реакции (ПЦР), предназначенные для детекции индивидуальных транслокаций. ПЦР позволяет работать с минимальным количеством биологического материала, обладает уникальной чувствительностью и позволяет определять тип перестройки. Ограничением ПЦР является неспособность выявлять редкие и новые транслокации, однако этот недостаток можно компенсировать использованием теста на несбалансированную экспрессию 5’- и 3’-концевых последовательностей. Относительно недавно появились новые ALK-специфические антитела, обладающие высокой чувствительностью и позволяющие выполнять предварительный скрининг опухолей лёгкого. Подразумевается, что иммуногистохимическая диагностика не может применяться для детекции транслокаций ALK в качестве самостоятельного метода, поэтому все ALK-экспрессирующие РЛ должны направляться на молекулярное тестирование. В целом, на выбор оптимального алгоритма детекции транслокаций ALK в значительной мере влияют локальные условия, в которых осуществляется лечение больных РЛ, а также методические предпочтения лабораторных специалистов [33, 40, 45, 60, 69, 71].
Другие потенциальные мишени
Помимо активирующих транслокаций ALK, в карциномах лёгкого изредка (около 1 %) наблюдаются перестройки киназ ROS1 и RET [34, 56, 67]. Эти генетические повреждения также ассоциированы с железистой гистологией опухолей и отсутствием анамнеза курения. РЛ с транслокациями ROS1 демонстрирует чувствительность к ингибиторам киназы ALK [4, 27]. В свою очередь, опухоли с перестройками онкогена RET отвечают на терапию RET-ингибиторами [13].
KRAS является одним из первых идентифицированных онкогенов. Он кодирует белок, участвующий в передаче пролиферативного сигнала от мембранных тирозинкиназных рецепторов к ядру. Активирующие мутации KRAS выявляются в 15–30 % опухолей лёгкого. Они также проявляют тенденцию к ассоциации с железистым гистотипом опухоли. В отличие от EGFR и ALK мутации KRAS чаще наблюдаются у курящих по сравнению с некурящими. Повреждения KRAS практически никогда не встречаются одновременно с мутациями EGFR и ALK; это связано с тем, что все перечисленные события активируют один и тот же сигнальный каскад [2, 3]. Соматические повреждения KRAS обычно проявляются аминокислотными заменами, влияющими на пространственную структуру белка, поэтому мутированные молекулы семейства RAS рассматривались как идеальные мишени для разработки таргетных препаратов. Однако это направление работ пока не увенчалось успехом, но поиски альтернативных решений уже принесли свои результаты. В частности, мутация KRAS практически всегда сопровождается активацией нижележащего белка сигнального каскада – киназы MEK. Недавнее клиническое исследование продемонстрировало, что добавление ингибитора MEK (препарат селуметиниб, selumetinib) к доцетакселу во второй линии терапии KRAS-мутированного РЛ увеличивает общую продолжительности жизни пациентов с 5,2 до 9,4 мес [25].
Онкоген BRAF кодирует серин-треониновую киназу, передающую сигнал с активированного
RAS на MEK. Marchetti et al. [37] представили результаты анализа опухолей лёгкого на наличие мутаций в гене BRAF, нуклеотидная замена V600E зарегистрирована в 21 (2 %) карциноме из 1046. Примечательно, что для мутированного BRAF уже имеется 2 специфических ингибитора – вемурафе-ниб (vemurafenib, Zelboraf, Зелбораф) и дабрафениб (dabrafenib). В литературе уже описаны случаи ответа BRAF-мутированных опухолей лёгкого на терапию вемурафенибом [17].
Перспективы поиска новых терапевтических мишеней
Современные подходы к молекулярной диагностике и таргетной терапии позволяют обнаружить потенциально уязвимые мутации и подобрать эффективное лечение лишь для небольшой части пациентов с РЛ. В большинстве случаев анализ известных генов не даёт возможности найти генетическое нарушение, ассоциированное со специфической чувствительностью к препарату [51]. Исследования последних лет позволили заметно продвинуться в поиске новых мишеней для терапии РЛ. Значительную роль в этом сыграла разработка методов полногеномного (полноэкзом-ного) секвенирования (next generation sequencing, NGS), позволяющих анализировать полный спектр мутаций в каждой отдельно взятой опухоли. Эти исследования установили, что геном РЛ является одним из рекордсменов по числу мутаций – это связано с экспозицией бронхиального эпителия к канцерогенам, содержащимся в табачном дыму [1, 16]. Более того, подтверждено, что молекулярный патогенез РЛ у некурящих индивидуумов значительно отличается от такового у курильщиков [20]. Анализ аденокарцином лёгкого выявил повторяющиеся мутации в гене фактора сплайсинга U2AF1, РНК-связывающем белке RBM10, а также участнике ремоделирования хроматина ARID1A [22]. Значительное число мутаций в железистом РЛ затрагивает киназы (ERBB4, EPHA3, KDR, NTRK, SIK2), что позволяет надеяться на успех применения соответствующих ингибиторов [11, 22]. Анализ плоскоклеточных карцином лёгкого подтвердил частое присутствие мутаций в онкогене р53, а также позволил обнаружить новые генетические события. В этой разновидности РЛ часто обнаруживаются мутации в генах ответа на оксидативный стресс – NFE2L2 и KEAP1 [7]. Другой особенностью плоскоклеточного рака лёгкого является частая активация киназ семейства FGFR, в настоящий момент проводятся клинические испытания FGFR-ингибиторов [13, 31, 32]. Наиболее агрессивные опухоли лёгкого (мелкоклеточные карциномы) характеризуются перестройками гена CHD7 [54]. Тенденции накопления сведений о молекулярном патогенезе РЛ дают основания полагать, что спектр потенциально эффективных таргетных препаратов многократно расширится уже в этом десятилетии.
Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования и науки РФ (14.512.11.0041) и РФФИ (11–04–00227 и 13–04–92613).