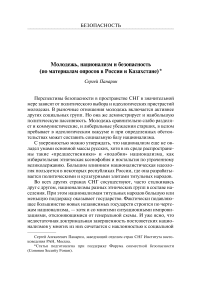Молодежь, национализм и безопасность (по материалам опросов в России и Казахстане)
Автор: Панарин Сергей Алексеевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Безопасность
Статья в выпуске: 3, 2000 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911741
IDR: 14911741
Текст статьи Молодежь, национализм и безопасность (по материалам опросов в России и Казахстане)
Перспективы безопасности в пространстве СНГ в значительной мере зависят от политического выбора и идеологических пристрастий молодежи. В рыночные отношения молодежь включается активнее других социальных групп. Но она же демонстрирует и наибольшую политическую пассивность. Молодежь сравнительно слабо разделяет и коммунистические, и либеральные убеждения старших, в целом пребывает в идеологическом вакууме и при определенных обстоятельствах может составить социальную базу национализма.
С уверенностью можно утверждать, что национализм еще не овладел умами основной массы русских, хотя в их среде распространены такие «предшественники» и «подобия» национализма, как избирательная этническая ксенофобия и ностальгия по утраченному великодержавию. Большим влиянием националистическая идеология пользуется в некоторых республиках России, где она разрабатывается политическими и культурными элитами титульных народов.
Во всех других странах СНГ сосуществуют, часто сталкиваясь друг с другом, национализмы разных этнических групп в составе населения. При этом национализмам титульных народов большую или меньшую поддержку оказывает государство. Фактически подавляющее большинство новых независимых государств строятся по чертежам национализма, — хотя и со многими ситуационными импровизациями, отклоняющимися от генеральной схемы. И уже ясно, что недостаточная доктринальная завершенность постсоветских нацио-нализмов у многих из них сочетается с наклонностью к социальной
Сергей Алексеевич Панарин, заведующий отделом стран СНГ Института востоковедения РАН, Москва.
и культурной инженерии, дискриминации меньшинств и авторитаризму в политике.
Представляется, что наиболее агрессивные национализмы могут возникнуть в среде тех народов, чья историческая память особенно сильно отягощена воспоминаниями об уроне, нанесенном империей их этнокультурной идентичности. Это прежде всего депортированные народы, а также казахи, татары и башкиры.
Как сам этнический национализм, так и процесс вовлечения молодежи в сферу его влияния не могут рассматриваться всегда и везде как безусловная угроза безопасности. Весь вопрос в том, как национализм, молодежь и безопасность соотносятся между собой в конкретной геополитической, экономической, демографической и этносоциальной ситуации, которая сложилась в Евразии после распада СССР. С большими основаниями можно предположить, что, пока гражданское общество остается и будет оставаться незрелым, государство — мягким, культура — деградирующей, а рынок — «диким», соединение молодежи с национализмом сделает последний угрожающим. С притоком в ряды сторонников национализма молодого пополнения почти наверняка усилится заложенный в нем потенциал конфликтности и сепаратизма. Создадутся серьезные угрозы безопасности личности, меньшинств и государств. И если даже искус этнического национализма будет быстро преодолен, а сам он потеснен гражданским или политическим национализмом, плата за «выздоровление» будет долго сказываться на развитии общества.
Этими исходными гипотезами и определялись предмет и цели исследовательского проекта, выполненного в 1996–1998 годах. Предполагалось изучить отношение «молодежь, национализм и безопасность» в разных этноконтактных средах, сделать это посредством социологических опросов в приграничных регионах России и Казахстана и проверить таким образом изложенные выше гипотезы. Городами опросов были: Элиста (калмыцко-русская среда), Уфа (русско-татарско-башкирская среда), Петропавловск и Усть-Каменогорск (русско-казахская среда). Для сравнения с полиэтничными регионами планировалось провести в каждой стране опросы в одном регионе с этнически однородным населением. Однако сделать это удалось только в России, в Иркутске.
В каждом случае выборка строилась по принципу приближенного соответствия ее демографической, этнической и социальной структуры такой же структуре всего населения города. Но имели место и отклонения от этого принципа. В Уфе и Петропавловске была взята более высокая доля лиц титульных национальностей среди всех респондентов, чем их доля в населении, зафиксированная официальной статистикой. Сделано это было намеренно. Из-за более высокого естественного прироста башкир и казахов удельный вес молодых людей данных национальностей в возрастных когортах от 15 до 29 лет должен быть несколько выше, чем удельный вес тех же национальностей во всем населении. Кроме того, фактический приток титульной молодежи по каналам сельско-городской миграции в Уфу и Петропавловск не в полной мере учитывается статистикой. Другие отклонения были случайными. В 14 случаях была превышена верхняя граница старшей когорты (25–29 лет), и в выборку попали люди в возрасте 30 лет. В Элисте была нарушена половая структура местной генеральной совокупности: в выборке оказалось больше мужчин, чем женщин. В Усть-Каменогорске среди респондентов непропорционально мало казахов, так как большинство розданных им анкет не было возвращено.
Опрос проводился по 10-страничной анкете, содержавшей свыше 190 вопросов. Всего было получено 560 заполненных анкет. Среди вопросов было много открытых, что позволило собрать богатый материал, но сильно затруднило его обработку. Последняя производилась по методу детерминационного анализа.
Объем и разнообразие собранных данных не позволяют в рамках одной статьи подробно охарактеризовать ситуацию в каждом из регионов обследования. Для этого пришлось бы написать книгу. В статье отражены только главные находки. Два ее первых раздела посвящены теоретическому анализу вопросов, необходимых для понимания связи между национализмом и безопасностью в представлениях молодежи России и Казахстана; в трех остальных приводятся результаты эмпирического исследования тех же вопросов.
Автор выражает глубокую признательность Марии Мухановой, Ирине Соя-Серко, Виктору и Елене Дятловым, Ирине Ерофеевой и Гюльнаре Мукановой, организовавшим или непосредственно проводившим анкетирование, а также Галине Витковской и Светлане Кирюхиной за помощь в компьютерной обработке полученных данных.
Безопасность — идентичность — национализм
В понятии «безопасность» совмещены три значения. Безопасность — это и многоаспектное состояние, и многогранное представление о том, какой она должна быть и какова на самом деле, и конкретная цель. Представление о безопасности может быть верным или искаженным, но в любом случае занимает определяющее положение по отношению к состоянию и цели. Ибо состояние оценивают в соответствии с представлением, а цель намечают, исходя из полученной таким образом оценки. Поэтому в статье главное внимание уделяется безопасности как представлению.
На уровне индивидуального и группового сознания, получившего отражение в собранных при опросе материалах, с безопасностью в первую очередь ассоциируется представление о здоровье, защищенности от голода, холода и насилия. К этому первичному аспекту или к чисто физической безопасности добавляются, как минимум, еще три аспекта. Первый — это экономическая безопасность: вознаграждающая занятость, достаток и сбережения на черный день. Второй — социальная безопасность: достойный статус и гарантированная защита человека общностью или обществом 1. Третий аспект — это безопасность этнокультурной идентичности. На нем я остановлюсь чуть подробнее.
Стремление к сохранению своей идентичности — такое же естественное для человека, как и стремление к сохранению жизни. Неотъемлемым атрибутом малой индивидуальной идентичности является большая разделяемая идентичность 2. Как следствие, человек нуждается в безопасности не только личной идентичности, но и в безопасности идентичности общности (нескольких общностей), к которой (которым) он принадлежит.
Ревностное отстаивание этнокультурной идентичности все чаще становится источником угрозы безопасности личности и общности, подрывает региональную и международную безопасность. На государственном уровне за заботой о безопасности идентичности нередко скрывается беспокойство о сохранности элементов этнокультурного наследия, освящающих недемократические модели политического развития. Однако явления и представления неповинны в проделываемых с ними манипуляциях. Этнокультурная идентичность действительно входит в круг важнейших ценностей человека 3, а представления о ее безопасности ощутимо влияют на общую оценку людьми доступной им безопасности.
Непременное присутствие в комплексе «состояние — представление — цель» высокозначимого этнокультурного аспекта ставит безопасность в прямую связь с проблемой национализма. Существуют различные точки зрения о том, что такое национализм. Нередко его отождествляют с подлинным либо с извращенным, болезненно разросшимся патриотизмом или с коллективным эгоизмом. «В других случаях, если судить по таким туманным выражениям, как культурный национализм, религиозный национализм и даже лингвистический национализм, имеются в виду решительные попытки какой-то группы защитить от воздействия извне черты этой группы, которые, как считается, отличают ее от других групп» 4. Я разделяю определение Эрнеста Геллнера: «Национализм — это прежде всего политический принцип, в соответствии с которым политическое образование должно совпадать в своих границах с национальным целым» 5.
Когда национализм вторгается в область безопасности, важна не столько его сущность, сколько роль в политической жизни общества. При таком подходе выявляются три функции национализма: объяснения, целеполагания и действия. Национализм — это и политическая теория , и политический проект , и политическая практика . Как теория, он мистифицирует этнокультурную идентичность, превращает ее в главное свидетельство наличия конечной политической воли. Как проект, замыкается на одной идентичности и обращает внимание на другие лишь тогда, когда полагает их помехами для са-мопроявления ее чудесных свойств либо дичками, к которым будут привиты ее благородные побеги. Как практика, он, защищая одну идентичность, почти всегда ущемляет другую (другие). В первом случае он возводит этнокультурный аспект безопасности в высший ранг; во втором — выстраивает иерархию уже самих объектов безопасности по признаку их этнокультурной идентификации; в третьем — стремится обеспечить безопасность «своего» объекта, не считаясь с безопасностью «чужих».
Такое отношение между национализмом и безопасностью не является универсальным. Это отношение между этническим национализмом и безопасностью. Национализм в западных демократиях не абсолютизирует, по крайней мере в теории, этнокультурную идентичность, не выстраивает, по крайней мере открыто, иерархий этнических объектов безопасности. Он вообще замкнут не на этнические группы, а на сообщества граждан или политические нации, потому и может быть назван гражданским или, точнее, политическим . При этом я согласен с Викторией Коротеевой, полагающей, что такое разделение национализма может быть «грубым и двусмысленным». Но не менее верным мне представляется ее же замечание о том, что «двойственное понимание нации как этнического или гражданского сообщества объясняется националистической практикой, которую наука пытается осмыслить в своих категориях» 6.
Очевидно, что национальное государство составляет величайшую ценность как для политического, так и для этнического национализма. Но также очевидно и принципиальное различие в воздействии этой ценности на текущую политическую практику разных национализмов. Для политического национализма национальное государство — еще и готовое историческое достояние; для этнического — цель, либо вовсе не достигнутая (национализм народов без государственности), либо достигнутая не до конца (национализм титульных народов в полиэтнических государствах, в которых разные этнические группы не переплавились в единую политическую нацию). В первом случае политическая практика сводится к сохранению уже воздвигнутого здания; во втором — к его сооружению или достройке. Это различие не может не влиять на степень и характер прилагаемых усилий: политическому национализму куда легче оставаться умеренным, тогда как этническому на роду написано срываться в агрессию.
В то же время как раз в области безопасности могут создаваться ситуации, попадая в которые, политический национализм дискредитирует себя ничуть не меньше этнического. Так происходит, например, при столкновении интересов безопасности государства и безопасности отдельного человека безотносительно к его гражданству. В западных демократиях оно получило пока только идеальное разрешение. В реальной же жизни не все так гладко: достаточно указать на партии, ратующие за запрещение иммиграции из стран Азии и Африки. Или на формирующуюся сейчас концепцию социеталь-ной безопасности, сторонники которой одной из главных угроз безопасности Европейского сообщества полагают приток мигрантов из государств, в это сообщество не входящих 7.
Хотя моя характеристика отношения между безопасностью и национализмом и не универсальна, она вполне применима ко всем странам Содружества, кроме разве что Белоруссии и России (да и то с большими оговорками). Ибо если этнические национализмы и не господствуют в каждом из них безраздельно, то во всех широко представлены в их специфической постсоветской версии. Ее можно определить следующим образом: национализм — это основной принцип государственного строительства; в соответствии с ним каждый народ имеет священное право обладать собственным государством; границы такого государства проходят по контурам этнического ареала данного народа (на худой конец, охватывают территорию расселения крупнейшей его части); управляют им люди, разделяющие свою этнокультурную идентичность с титульным населением.
Повсюду в СНГ, где этнические национализмы активны, они создают угрозы безопасности этнокультурной идентичности меньшинств. Прежде всего, в виде угрозы прямого устранения меньшинств путем их физического истребления, открытого насильственного изгнания или скрытого, но активного выдавливания за пределы национальной территории. Затем в виде угрозы социального принижения меньшинств вследствие непредоставления им гражданства, ограничения доступа к престижным видам деятельности, отрицания или искажения их вклада в историю и культуру титульных этноареалов. Наконец, в виде угрозы поглощения меньшинств в результате принятия властью и поддержки титульным большинством курса на их ассимиляцию.
Уже из этого перечисления видно, что угрозы одному аспекту безопасности, этнокультурному, легко преобразуются в угрозы другим аспектам. Так происходит потому, что идентичность человека и/или общности целостна, и покушение только на один аспект безопасности оборачивается покушением на нее целиком. Кроме того, раз источники формирования идентичности разнообразны, наступление на нее может вестись с разных направлений и разными способами.
Национализм и молодежь
Итак, одной из характерных особенностей национализма является его тесная связь с проблемой идентичности. Отношение к идентичности составляет сердцевину национализма независимо от того, в каком функциональном обличье он являет себя миру. И именно повышенное внимание к идентичности делает национализм потенциально привлекательной идеологией для молодежи. Убедительное объяснение того, как и почему это происходит, было предложено американским психологом Эриком Эриксоном.
Эриксон считал, что на своем жизненном пути человек испытывает несколько кризисов идентичности. Самый острый из них приходится на время перехода от детства к взрослости. Суть его может быть передана как колебания между цельной и тотальной личностью. Цельная личность синтезирует частичные идентичности, сформировавшиеся на разных этапах роста, в органичное единство глубоко усвоенных идей, ценностей, категорий. Однако становле- ние и развитие идентичности ребенка протекает таким образом, что самим этим процессом создается значительная вероятность срыва взрослеющего человека в тотализм. Тотализм — это чрезмерное (избыточное) сосредоточение только на одной из частичных идентичностей, накопленных в детстве (идентичности ребенка в семье, идентичности сверстника, идентичности ученика и т. д.).
Подавляющее большинство людей «нарабатывают» свои пучки идентичностей в лоне семьи, семья же является хранителем и проводником традиции в любом ее издании — этническом или общенациональном. Причем хранителем самым надежным, проводником самым сильным, потому что многое из того, что ею сберегается и передается, внутри семьи не подвергается рефлексии и анализу. Здесь мы сталкиваемся с другой особенностью процесса становления и развития идентичности: предрасположенностью молодого человека к тому, чтобы в ситуации кризиса идентичности сделать тотальным образ этнического или национального. В прошлом личностном становлении закладывается склонность к некритическому принятию националистической идеологии.
Привлекательность такой идеологии для молодежи усиливается благодаря тому, что она дает четкие жизненные ориентиры. Цель, к которой надо стремиться, — это нация или родина, ее единство, возрождение и процветание; опасность номер один, с которой надо бороться, не щадя живота своего, — все, что угрожает нации или родине 8. К тому же национализм легко обнаруживает субъектов угроз, «врагов»: для этого ему достаточно прибегнуть к помощи исторической мифологии и негативных гетеростереотипов «чужих».
Что касается «своих», то национализм требует от них многого. Он склонен полагать единообразие индивидов залогом своеобразия целого (народа, нации). Он убежден в необходимости стирания субэтнических различий внутри формирующейся («возрождающейся») нации. Он также настаивает на подчинении массы лидерам, предпочтительно патриархальным и авторитарным. Все это может вызвать отторжение даже у личности, склонной к срыву в тотализм. Но национализм требует абсолютного самоотречения лишь в идеале; на практике он на свой манер поддерживает личность даже в исполнителях, предоставляя им возможность обрести уверенность и новый опыт в политическом действии и культуротворчестве, освоить новые престижные роли в иерархически организованном политическом движении 9.
Таким образом, соблазн выхода из кризиса идентичности национализм подкрепляет надеждой на компенсацию за приносимые ему жертвы. Пусть я отказался от полноты моей самости, сомнения в правомерности такого шага будут беспокоить меня только до тех пор, пока социальные контакты ограничиваются «своими». При всякой же встрече с «чужими» я буду ощущать себя великой совокупной личностью, вобравшей в себя все богатство идентичности моего народа 10.
Правда, тут скрывается некий подвох: получается, что истинное удовлетворение выбор тотального образа этничности дает только в ситуации острого межнационального соперничества, при наличии угроз и «врагов». Да и тогда степень удовлетворения велика лишь у тех немногих, кто допущен к активной политической деятельности или занят изобретением традиций. По-настоящему национализм вознаграждает только мифологизированных отцов-основателей нации — воинов и культурных героев 11. Остальным приходится довольствоваться чисто ситуационной компенсацией за обеднение личности, а нередко и за утрату безопасности.
В нормальных жизненных обстоятельствах предрасположенность молодежи к восприятию идеологии национализма чаще всего не получает развития. Увлечь целое поколение национализм способен лишь при определенных условиях. Эриксон специально выделил одно из них — упадок социальных институтов, понуждающих молодежь к синтезу идентичности и облегчающих ей достижение такого синтеза 12. На мой взгляд, должны быть добавлены и другие условия. Все общество должно находиться в состоянии перехода, сопряженного с утратой идентичности. Сила, обещающая одарить людей новой идентичностью, не должна иметь ничего общего с дискредитировавшими себя институтами политического действия. И уж тем более нужно, чтобы новую национальную идею провозгласили новые лидеры.
Часть этих условий присутствует в постсоветском пространстве. Оно действительно охвачено кризисом перехода. Проблема идентичности действительно возникла перед жителями и России, и Казахстана. Советские институты социального контроля либо рухнули, либо перестраиваются и в любом случае резко ослабили свое влияние на молодежь. Но вот насчет новизны силы, возвещающей о спасении, и новизны лиц, претендующих на путеводительство, возникают серьезные сомнения.
По уровню доктринальной разработанности и относительной силе влияния на общество как в России, так и в Казахстане лидируют национализмы, пользующиеся поддержкой властных структур: общероссийский (или, если так можно выразиться, «федеральный» национализм), «унитарный» общеказахстанский национализм и квазигосударственные национализмы в российских республиках. Напротив, национализмы, оппозиционные власти, влачат убогое существование: они маргинальны, ни один из них не стал идеологией сколько-нибудь впечатляющего движения. Различие это не может быть объяснено разницей в «стаже» государственных и квазигосу-дарственных национализмов, с одной стороны, и оппозиционных, с другой. И те и другие заявили о себе примерно в одно время, а некоторые, как например русский или татарский этнические национа-лизмы, старше по возрасту их более удачливых конкурентов. В чем же тогда заключается причина видимого преуспеяния одних нацио-нализмов, прозябания других?
Возможны два ответа: или национализмы, насаждаемые сверху, находят большую поддержку, чем оппозиционные, или же они просто-напросто обладают лучшими возможностями для создания видимости влиятельных идеологий.
Я убежден в том, что правильный ответ — второй. Финансовая подпитка и свободный доступ к СМИ позволяют российскому, республиканским и казахстанскому национализмам настойчиво навязывать себя массовому сознанию, проникать в него, запечатлевать в нем свои догмы. Это удается еще и потому, что официальные доктрины беззастенчиво заимствуют у маргинальных национализмов положения, способные вызывать сочувственный отклик у части населения. Но это временный успех. Представляется убедительной точка зрения, согласно которой отличительной чертой современного российского общества является сильнейшее отчуждение общества от государства. То же самое характерно и для постсоветского Казахстана 13. Отчуждение же быстро обесценивает привлекательные поначалу компоненты национальной идеи. Общество видит, что люди и институты, претендующие на формулирование этой идеи и на руководство процессом ее реализации, остались по большому счету те же, что и прежде; оно не доверяет искренности первых и дееспособности вторых. В то же время частичное присвоение властью националистических доктрин оппозиции самым губительным образом сказывается на мобилизационном потенциале последних: власть их выхолащивает 14, а подчас и опошляет.
В общем, есть основания полагать, что даже наиболее «крепкие», государственные, национализмы на поверку не могут обеспечить эффективную националистическую мобилизацию молодежи. Так это или не так, должен показать анализ данных обследования. В первую очередь надо выяснить, какое содержание вкладывают молодые люди в понятие «национализм» и как они относятся к национализму. Полученную картину следует соотнести с идентификационными предпочтениями молодых и с их представлениями о безопасности. Только после этого возможна оценка силы влияния национализма на молодежь, равно как и угроз безопасности, создаваемых таким влиянием.
Восприятие национализма молодежью
Среди вопросов и заданий анкеты была просьба коротко определить, что такое национализм. 147 опрошенных (23,1% от их общего числа) либо вовсе не высказали своих соображений, либо ушли от ответа. Остальные предложили свои формулировки, образующие корпус чрезвычайно интересных текстов.
Всего в 413 анкетах, содержавших определения национализма, было 456 ответов. Некоторые из них повторялись, другие, слегка различаясь по форме, одинаковы по смыслу. При слиянии односмысловых ответов было получено 111 нетождественных определений. Сначала они рассматривались в универсальном контексте, то есть в рамках всего массива данных. Далее анализ проводился в национально-региональных контекстах: 1) русские в России, 2) они же в Иркутске, 3) они же в Элисте, 4) они же в Уфе, 5) калмыки в Элисте, 6) башкиры в Уфе, 7) татары в Уфе, 8) казахи в Казахстане, 9) русские в Казахстане, 10) они же в Петропавловске, 11) они же в Усть-Каменогорске. Распределение респондентов по месту опроса и национальности показано в табл. 1.
В универсальном контексте в десятку наиболее часто встречающихся определений вошли следующие: 1) «национализм — это [представление] о превосходстве одной нации над другой» (встречено 37 раз, что составляет 8,1% от общего числа ответов); 2) «национализм — это возвышение какой-либо нации над другими» (32 раза, 7,0%); 3) «национализм — это ненависть к другим нациям» (29 раз, 6,3%); 4) «национализм — это неприязнь к другим нациям (28 раз, 6,1%); 5) «национализм — это враждебное и предвзятое отношение одной нации к другой» (27 раз, 4,1%); 6) «национализм — это ущемление прав и интересов других наций» (18 раз, 3,9%); 7) «национа-
Таблица 1
Россия и Казахстан: распределение респондентов по месту опроса и национальности
При сопоставлении этих определений заметно, что многие из них близки друг другу. Это справедливо в отношении определений 1, 2 и 9, в которых под национализмом подразумевается представление о превосходстве одной нации над другими; определений 3, 4, 5 и 10, отождествляющих с национализмом разные градации ксенофобии; определений 6 и 7, делающих акцент на действии, на политике.
Таким образом, главные определения, повторившиеся 217 раз, довольно четко разделились на группы сходных по смыслу определений. Решено было сгруппировать и все остальные определения. В итоге получилось восемь групп: 1) национализм — это представление о должном/идеология; 2) это политический проект/политичес-кая практика; 3) путь к национальному возрождению, 4) негативное отношение к чужим/ксенофобия; 5) позитивное отношение/чувство к своим; 6) объективное состояние общества/ситуация; 7) форма/ следствие чего-то другого; 8) проблема психики/образования/мора-ли (табл. 2).
Некоторые определения сформулированы так, что могут быть помещены в разные группы. Например, ответ: «национализм — это как в Германии 30–40-х годов XX века», включенный мною в группу «политический проект/политическая практика», может быть классифицирован и как описательное определение идеологии либо как указание на конкретную общественную ситуацию. А определение: «национализм — это любить свою нацию, презирая другие», отнесенное мною к группе «позитивное отношение/чувство к своим», тяготеет и к группе «негативное отношение к другим/ксенофобия».
Россия и Казахстан: распределение определений национализма по группам и по частоте встречаемости групп
Таблица 2
|
Номер группы |
Название группы |
Определения в группе |
Встречаемость определений группы |
||
|
Число |
% |
Число |
% |
||
|
1 |
Представления о должном/ идеология |
19 |
17,1 |
132 |
28,9 |
|
2 |
Политический проект/ политическая практика |
24 |
21,6 |
83 |
18,2 |
|
3 |
Путь к национальному возрождению |
7 |
6,3 |
10 |
2,3 |
|
4 |
Негативное отношение к чужим/ ксенофобия |
16 |
14,4 |
137 |
30,0 |
|
5 |
Позитивное отношение/ чувство к своим |
20 |
18,0 |
59 |
13,0 |
|
6 |
Объективное состояние общества/ситуация |
5 |
4,6 |
11 |
2,4 |
|
7 |
Форма/следствие чего-то другого |
14 |
12,6 |
18 |
3,9 |
|
8 |
Проблема психики/ образования/морали |
6 |
5,4 |
6 |
1,3 |
|
ВСЕГО |
111 |
100,0 |
456 |
100,0 |
|
Однако определений, двойственных по смыслу, насчитывается лишь 14, на их долю приходится менее 12 % от общего числа определений и всего 6,5 % ответов, так что создаваемая ими погрешность незначительна. В любом случае в каждой из групп имеется «ядро» определений, четко отделяющееся от других «ядер». В первой группе «ядровыми» являются определения: «национализм — это возвышение какой-либо нации над другими»; «это [представление] о превосходстве одной нации над другими»; «мнимое превосходство одной нации над другими»; «идея национального превосходства, исключительности»; «реакционная идеология, превозносящая одних над другими». Во второй группе «ядро» образуют определения: «национализм — это когда башкиры хотят, чтобы русские убрались в Рязань, татары — в Казань»; «борьба за свою родину, за очищение ее от всех лишних»; «стремление каждой нации к независимости»; «политика, основанная на идее национального превосходства»; «ущемление прав и интересов других наций»; «ущемление прав человека из-за его национальной принадлежности». Для третьей группы ту же роль играют определения: «национализм — забота о сохранении/ возрождении своей нации»; «поддержание культуры, обычаев, традиций своего народа»; «стремление к процветанию своей нации». Для четвертой — целый блок определений, начинающихся с отрицательной частицы не : «недостойное отношение к людям другой национальности»; «недоверие к другим нациям»; «неуважение к другим нациям»; «неприятие других наций, народов»; «неприязнь к другим нациям»; «ненависть к другим нациям». «Ядро» пятой группы составляют определения: «национализм — это национальное достоинство»; «это любовь к своей нации»; «вера в свою нацию»; «уважение к своей нации»; «гордость за свою нацию»; «верность своей нации». «Ядро» шестой — определения национализма как национальной обособленности, национальной розни и вражды между нациями. В седьмой группе положение «ядра» занимают следующие определения: «национализм — это расовая неприязнь»; «это слепой патриотизм»; «ответная реакция на шовинизм великороссов»; «национально окрашенный экстремизм»; и даже «фашизм». Лишь в последней группе ответов трудно выделить «ядро», так как их объединяет не столько содержание, сколько общая тональность высказываний: «национализм — это тупость»; «это невежество»; «это предрассудок»; «скрываемый комплекс неполноценности», «безумие»; «абсолютное зло».
Исходя из несомненного наличия, как минимум, семи классов определений с четко выделяемым «ядром», я позволил себе прене- бречь тем обстоятельством, что содержательное единство восьмой группы выражено относительно слабо и что некоторые определения «плавают» между группами, и рассчитал удельные веса групп в универсальном контексте. Полученные цифры служат показателями относительной популярности определений, образующих ту или иную группу (см. табл. 2).
В масштабе всей выборки первенствует группа представлений о национализме как о ксенофобии. Казалось бы, такое понимание национализма выводит его из сферы политики в сферу межличностных контактов. Ксенофобия, взятая как отношение, пусть вполне определенное по своей направленности и окраске, может рассматриваться в одном ряду с другими, хотя и противоположными по знаку и направленными на другой предмет отношениями и чувствами. При таком подходе четвертая группа определений может быть объединена с пятой и тенденция молодежного сознания к «деполитизации» национализма делается более отчетливой (43% всех ответов).
В действительности бытовое понимание национализма все-таки не является преобладающим. C одной стороны, в определениях четвертой группы объектом ксенофобии чаще указываются не «люди другой национальности», а «нации» целиком (соответственно, 5 определений, использованных 28 раз, и 11 определений, использованных 109 раз). Значит, большинство респондентов, определивших национализм как ксенофобию, видят в нем нечто большее, чем ситуационно обусловленный всплеск сугубо индивидуального отношения или чувства. Для них национализм это не столько личное отношение, сколько питающее его устойчивое общественное настроение.
С другой стороны, частота встречаемости определений первой группы, трактующих национализм как представление о должном или даже как идеологию, почти совпадает с частотой встречаемости его определений как ксенофобии. Но определения первой группы тем более свидетельствуют о восприятии национализма не в качестве какого-то случайного факта жизни, а в качестве идейного приоритета, постоянно присутствующего в сознании людей и выводящего их за рамки обыденного. Если же вспомнить о том, что идеологическая функция национализма тесно переплетена с его политическими функциями, то тогда первая группа определений может быть объединена со второй даже с большим основанием, чем четвертая с пятой. При таком слиянии первая и вторая группы сразу выйдут вперед: 47% ответов.
Очевидно, что в сознании молодежи представления о национализме как о политическом феномене и как о бытовом отношении, как минимум, примерно равновелики по их распространенности. При этом в представлениях о национализме как об отношении явно преобладает восприятие его как отношения негативного и заслуживающего осуждения. Далее, национализм чаще понимается как такое представление, отношение или действие, которое обязательно направлено не только на свой народ, но и на какой-то другой (другие) и даже в большей степени именно на другой (другие). Если судить по формальному признаку — употреблению в определениях слов «другой», «другая», «другие» — таких ответов оказывается 283 или 62%. На самом деле их больше, так как в ответах типа «попытка доказать превосходство своей нации» или «главенство одной нации» явно подразумевается общность, за счет которой будет достигаться «превосходство» или «главенство» субъекта. Реже встречаются определения, демонстрирующие своеобразный националистический аутизм, — когда респондент, думая о своем народе, не соотносит его с другими народами 15. По формальному критерию использования слов «свой», «своя» такие определения встречаются только 94 раза (20,6% от общего числа ответов). И совсем уж мал удельный вес представлений о национализме, не делающих различия между ним и процессом национального возрождения.
Пожалуй, преобладание представлений о национализме как о явлении, обращенном на других и причиняющем им вред, — наиболее яркая и интересная особенность понимания национализма молодежью. Заметна и другая характерная черта, как бы естественно обусловленная первой. Это тенденция к передаче личного отношения к национализму. Хотя относительное большинство определений (около 50) носят нейтральный констатирующий характер, во многих ответах национализм прямо или неявно квалифицирован в категориях «хорошо—плохо», «добро—зло». И определения с осуждением национализма (около 40) опережают по частоте встречаемости нейтральные и позитивные определения.
Однозначно положительное отношение к национализму передают лишь 18 определений из 111. Использованы они в ответах 54 раза (11,8%). Почти все они аутичные, только два предполагают направленность возможного действия вовне и/или в ущерб другим. Оценивая эту умеренность, не следует забывать об инерционном влиянии советских времен, когда любое публичное признание достоинств национализма в лучшем случае воспринималось как нечто непри- личное, в худшем — как идеологическая диверсия. Нельзя исключить и смешения понятий «национализм» и «патриотизм». Но даже со всеми этими оговорками можно утверждать, что фиксируемая ответами глубина уже достигнутого национализмом системного проникновения в молодежное сознание (когда национализм понимается как безусловно позитивная ценность) в общем невелика.
Остается посмотреть, как особенности восприятия национализма молодежью, выявленные в универсальном контексте, меняются (если меняются) в национально-региональных контекстах (табл. 3 и 4). Показателями таких изменений можно считать: отсутствие некоторых групп, выявленных в универсальном контексте; различия в рангах, устанавливаемых группам по частоте встречаемости определений; степень различия в удельных весах ответов с использованием определений одной и той же группы.
При сопоставлении структуры ответов русских в России сразу видно, насколько она близка в Иркутске и Уфе. Это говорит об относительном единстве восприятия национализма русской молодежью. В обоих городах нет определений восьмой группы. И в Иркутске, и в Уфе первое место по частоте встречаемости в ответах
Таблица 3
Россия: частота встречаемости групп определений национализма по месту опроса и национальности респондентов
Структура ответов русских Элисты во многом иная. Здесь представлена только половина групп. На долю определений национализма как ксенофобии пришлось свыше половины всех ответов. Второе место занимают определения национализма как политического проекта/политической практики, причем по их удельному весу в общем числе ответов обе эти группы в Элисте вдвое «тяжелее», чем в Иркутске и Уфе. А вот ответы в виде позитивных определений национализма (пятая группа) не просто заняли в Элисте по частоте встречаемости лишь четвертое место, но и резко «похудели» по сравнению с частотой их использования в двух других городах.
Зато у элистинских русских оказалось немало общего с калмыками. Как и их русские соседи по городу, калмыки чаще всего определяли национализм как ксенофобию, затем как политический проект /политическую практику, затем как представление о должном/иде-ологию и как позитивное отношение к «своим». Ни русские, ни калмыки не воспользовались определениями третьей группы. В ответах калмыков были и отличия: довольно частое обращение к определениям восьмой группы (в этом отношении их ответы не имеют аналогов во всей выборке); использование определений национализма как ситуации и как формы/следствия чего-то другого; более сдержанное употребление политических определений национализма. Тем не менее нельзя не заметить, что у молодежи Калмыкии общие региональные особенности восприятия национализма выражены более ярко, чем специфические этнические.
В Уфе межэтнические совпадения в восприятии национализма не столь заметны, как в Элисте. Все же и русские, и башкиры, и татары Уфы чаще всего определяли национализм как представление о должном/идеологию, у всех на третье место по частоте употребления вышли определения национализма как позитивного отношения к «своим», и никто не воспользовался определениями восьмой группы. В то же время башкиры — уникальный случай! — не дали ни одного определения национализма как ксенофобии и чаще других
Таблица 4
Казахстан: частота встречаемости групп определений национализма по месту опроса и национальности респондентов
Можно предположить, что как сходства, так и различия в структуре ответов совместно проживающих этнических групп в значительной мере являются производными от этнополитической ситуации в регионах обследования. В Элисте русские и калмыки примерно в равной степени обращают внимание прежде всего на тот аспект национализма, который ярче всего проявляется в обыденных межличностных контактах, и в значительной мере пренебрегают прочими аспектами. И тех и других в равной мере не устраивает бытовой национализм, но в национальном плане не задевает политика местной власти. И действительно, эта власть, в лице харизматического лидера и культурного героя калмыцкого президента Кирсана Илюмжинова, предпочитает использовать для манипулирования молодежным сознанием не этнический национализм, а иные средства 16.
На Южном Урале все молодые резиденты, независимо от национальности, видят в национализме некое представление о должном, которое они могут оценивать положительно (более характерно для ответов башкир) или нейтрально и отрицательно (более характерно для ответов татар и русских), а также как обращенное на «своих» позитивное отношение. Но одновременно молодые люди титульной национальности как будто вообще не замечают ту сторону национализма, которая в повседневной жизни приводит к ущемлению человека по национальному признаку. Напротив, для русских это одна из главных проблем, создаваемых национализмом. Татары занимают промежуточное положение и более чем какая-либо другая этническая группа, склонны воспринимать национализм в качестве объективного состояния общества. И многое в этих различиях становится понятным при ознакомлении с этнополитической ситуацией в республике.
Среди других регионов России Башкортостан выделяется установившимся здесь жестким авторитарным режимом 17. Для его создания и укрепления президент Муртаза Рахимов опирался и опирается на башкирскую политическую и культурную элиту. Пусть при этом он пресекает самостоятельную политическую активность ее радикальных фракций, — но не мешает им предаваться разработке, а отчасти и пропаганде проектов создания этнонационального государства, заимствует некоторые их практические предложения и смотрит сквозь пальцы на «коренизацию» властной вертикали (если не прямо ее инициировал). Благодаря этому значительная часть башкирской молодежи ощущает себя более уверенно, чем русские, оттесняемые на роли технических специалистов и простых исполнителей. Что касается татар, то они еще в советские времена испытали на себе политику ассимиляции, исподволь проводившуюся в Башкирии 18. По-видимому, они в какой-то мере приспособились к ней и потому реагируют на башкирский национализм менее остро, чем русские. Кроме того, не следует забывать, что собственно татарский национализм доктринально более разработан и имеет больший политический опыт, чем башкирский, а Татарстан — лидер среди республик России по степени обособления от Москвы. Поэтому татары, страдая от национализма, в нем же видят доказавшее свою действенность средство самозащиты. Это двойственное положение и вынуждает их воспринимать национализм как нечто неизбежное.
В Казахстане у русских преобладают представления о национализме как об идеале, действии и отношении: подавляющее большинство их ответов приходится на первую, вторую и четвертую группы. Кроме того, у них высока доля ответов с использованием однозначно негативных определений. Главное различие между русскими из Петропавловска и из Усть-Каменогорска заключается в том, что в первом городе в ответах молодежи с большим отрывом лидируют определения национализма как представления о должном/ идеологии, тогда как во втором почти столь же ярко выраженным лидером оказываются определения национализма как негативного отношения/ксенофобии. Таким образом, для Петропавловска характерно несколько более «политическое» восприятие национализма местными молодыми русскими, а для Усть-Каменогорска — более «бытовое» 19. Однако в обоих городах суммарная встречаемость у молодых русских представлений о национализме как идеологии, политическом проекте и политике — наивысшая. Это отражает давление государственного этнонационализма на их жизнь в Казахстане: отрицание или принижение культурного вклада русских, последовательную «коренизацию» кадров, сокращение доступа нетитульной молодежи к высшему образованию 20 и т. д.
Более позитивное восприятие национализма наблюдается у казахской молодежи. Доказательством тому служат значительно более высокие, чем у русских, удельные веса ответов, в которых использовались аутичные определения третьей и пятой групп. Но одновременно молодым казахам свойственно негативное восприятие национализма как средства ущемления человека определенной национальности. У них оно лишь немногим слабее, чем у русских, — в особенности, если учесть, что в определениях седьмой группы, куда более активно использованных казахами, чем русскими, национализм с явным неодобрением приравнивается к расизму. В этом специфическом оттенке восприятия — намек на то, что, сталкиваясь с уверенностью русских в их этнокультурном превосходстве, казахи интерпретируют ее как уверенность в расовом превосходстве.
Приоритеты самоидентификации
Восприятие национализма молодежью позволяет установить силу его влияния на младшие поколения в России и Казахстане лишь до известных пределов. В сфере восприятия установка на отверже- ние или принятие того или иного явления более устойчива, чем любой вариант рационального истолкования делаемого выбора. Как минимум, это справедливо по отношению к восприятию национализма в бывшем СССР. Даже когда кто-то пытается подойти к национализму беспристрастным образом, начинать все равно приходится с неприятной констатации того факта, что предмет размышлений пользуется дурной репутацией, что ему принято приписывать прямо-таки инфернальные качества. Это сильно ограничивает свободу индивидуальной оценки, ибо мало кто способен полностью пренебречь широко распространенной негативной аттестацией того или иного явления. Но и в тех случаях, когда человек вырабатывает свое мнение независимо от обвинений в адрес национализма, это еще не означает, что мы имеем дело с действительно независимым мнением. Позитивный образ национализма тоже может сформироваться не на основе личного опыта, а по книгам и газетам. Это тем более справедливо в отношении молодежи, чей жизненный опыт охватывает сравнительно узкий круг ситуаций.
Чтобы с уверенностью судить о потенциале принятия или непринятия молодежью национализма, нужно прямые высказывания в его адрес проверить анализом некоторых других компонентов молодежного сознания. Для этого были сначала выбраны идентификационные предпочтения молодых людей. Их распределение по типам идентификаций представлено в табл. 5.
Таблица 5
Россия и Казахстан: идентификационные предпочтения респондентов
|
Тип идентификации |
Число |
% |
|
Гражданская |
205 |
36,6 |
|
Поколенческая |
179 |
32,0 |
|
Этническая |
126 |
22,5 |
|
Субэтническая (клановая) |
18 |
3,2 |
|
Космополитическая |
10 |
1,8 |
|
Прочая |
15 |
2,7 |
|
Не дали ответа |
7 |
1,2 |
|
ВСЕГО |
560 |
100,0 |
При просмотре ответов в национально-региональных контекстах отмечены следующие отличия. Ни один русский не отождествил себя со всем человечеством. Этническая идентификация русских в России и в Иркутске занимает, как и в рамках всей выборки, третье место, однако доля соответствующих ответов заметно ниже — 6,5 и 6,2%. У русских в Башкортостане она вообще падает до 2 %, что в 4 раза меньше, чем доля вышедших здесь у русских на третье место субэтнических идентификаций. Напротив, в Калмыкии этнические предпочтения у русских выдвинулись вперед (13,2%), на второе место после безусловно лидирующих гражданских (71,1%), а поколенческие сместились на третье (10,5%). Здесь же нет ни одного случая субэтнической идентификации русских. Калмыки чаще всего относили себя к людям своей национальности (46,9% ответов) и к людям своего поколения (29,7%), заметно реже — к гражданам своей страны (14,1%). Ответов в пользу субэтнической и космополитической идентификации у них 4,7 и 3,1%. Башкиры, как и русские, обошлись без последнего вида идентификации; в остальном их выбор распределился так: в пользу страны — 44,4%, в пользу поколения — 33,3%, в пользу национальности — 14,8% и в пользу всего человечества — 3,7. У татар на первом месте оказался поколенческий выбор (48,6% ответов), процент ответов в пользу гражданской идентификации снизился до 25,7, в пользу этнической поднялся до 17,1, а космополитические предпочтения опередили субэтнические (5,7 и 2,9%).
У русских Казахстана в целом популярность выбора в пользу поколения и национальности была наибольшей и практически одинаковой (39,8 и 39,1%). В Петропавловске на первом месте поколенческая идентификация (47,7% голосов), на втором — этническая (29,5%); в Усть-Каменогорске эти способы отождествления меняются местами и при этом разрыв между ними сокращается (44,0 и 35,7%). Но в обоих городах и в стране гражданская идентификация русских по частоте встречаемости занимает третье место и держится на низком уровне: 15,5 — 15,9%. Казахов же отличает «кучное» распределение привлекательных видов идентичности: гражданская — 32,3% ответов, поколенческая — 29,3% и этническая — 24,1. Впрочем, и между менее популярными предпочтениями общечеловеческой и жузовой идентичности разрыв небольшой — 6,9 и 5,2%.
Суммируя эти различия, можно сделать следующие выводы. Респонденты, представляющие титульные народы, менее склонны к этнической идентификации, чем представители меньшинств. При этом у русских в России, сравнительно с казахами в Казахстане, совсем отсутствует космополитическая идентификация и сильнее выражено традиционное для них отождествление себя с государством, к которому они принадлежат. Но это должно быть государство, которое было создано русскими и в котором они играют первую скрипку. Если эти условия отсутствуют, уровень гражданской лояльности русских снижается, и гражданской идентичности они предпочитают иную. «Кучность» ответов казахов свидетельствует о том, что на групповом уровне их идентификационные предпочтения еще недостаточно определились. А относительная популярность отождествлений ими себя с человечеством указывает скорее на попытку самоутверждения в глобальной системе координат, чем на действительную распространенность в их среде «граждан мира». Татары Башкортостана и тут демонстрируют адаптацию к положению «двойного» меньшинства, удерживающую их от того, чтобы поддаться искусу этнического национализма, а башкиры — уверенность в своем первенстве на уровне республики, которая позволяет им как бы не замечать свой статус меньшинства в масштабах России. Наконец, структура идентификации калмыков заставляет предположить, что, несмотря на негативное в целом восприятие национализма, они могут живо откликнуться на националистический проект, проводимый под лозунгом защиты их этнической идентичности.
В какой мере идентификационные предпочтения молодых людей повлияют на их поведение, станет ясно, когда им придется выбирать между различными целями политического действия. Однако уже сейчас прослеживается корреляция между выбором идентичности и выбором цели. Респондентам было предложено отметить, что они считают наиболее важным: территориальную целостность страны, право народов на самоопределение или отсутствие военных конфликтов. В пользу первого политического принципа высказались 75 человек из 560, в пользу второго — 63, ситуацию мира выбрали 375 человек. Еще 20 человек отметили сразу две или три позиции, а 27 — ни одну. При парном распределении в универсальном контексте ответов на этот вопрос и на вопрос об идентификационных предпочтениях были получены любопытные результаты.
Если всего в выборке сохранение целостности страны посчитали наиболее важной задачей 13,4% респондентов, то в группе с гражданской идентификацией — 19,0%. Зато в этой группе оказалось куда меньше тех, кто отдал предпочтение праву народов на самоопределение: всего 6,8% против 11,3% в масштабах всей выборки. Более того, «граждане» дали более половины (52%) всех вообще голосов, поданных в поддержку принципа территориальной целостности. А вот среди тех, кто полагает приоритетным принцип самоопределения, их оказалось лишь 22,2%.
Напротив, больше всего сторонников этого принципа обеспечила группа с преимущественно этнической самоидентификацией — 39,6% от общего числа респондентов, высказавшихся в его пользу. В пределах самой группы такой выбор сделали 19,8% (в пределах всей выборки — только 11,3%). Зато принцип целостности страны был в этой группе значительно менее популярен, чем среди респондентов в целом: в ней он собрал лишь 6,8% предпочтений.
Молодых людей с поколенческой идентификацией практически не волновали принцип целостности и принцип самоопределения (всего по 8,9% предпочтений). Отсутствие военных конфликтов, нарушающих спокойное течение частной жизни и грозящих потерей безопасности и самой жизни из-за каких-то чуждых идеалов и принципов, — вот, что было для них главным. Если всего по выборке приоритет мира и стабильности признали 67% респондентов, то в группе с поколенческой идентификацией — 73,1%. Выбор в пользу мира сделало абсолютное большинство респондентов и в двух других крупных группах. И все же влияние различий в идентификации сказалось и тут: среди респондентов с гражданской идентичностью отсутствие военных конфликтов посчитали главным 67,8%, среди респондентов с этнической — 58,7%.
Национализм или безопасность? Выбор молодых
Как и во всем постсоветском пространстве, в России и Казахстане понятие «национальное» часто употребляется тогда, когда следовало бы сказать «этническое». Это означает, что когда кто-то печется о национальном достоинстве, почти наверняка он (она) имеет в виду достоинство своей этнической группы. Понимаемое таким образом национальное достоинство связывает воедино другие составляющие этнокультурной безопасности на индивидуальном и групповом уровне. Поэтому его противопоставление личной безопасности не совсем корректно. Тем не менее одно из ключевых мест в анкете занял вопрос: «Что для вас важнее — личная безопасность или национальное достоинство?» Ибо он позволял получить ответы, показывающие, соперничают ли групповые националистические ценности с представлениями о минимальной личной безопасности и не могут ли эти представления способствовать политической мобилизации молодежи национализмом.
Данные табл. 6 дают, как мне кажется, достаточную информацию для ответа на оба вопроса. Свыше половины респондентов предпочитают личную безопасность, а почти треть выбирают национальное достоинство. Резонно допустить, что те, кто сейчас делает пока еще чисто умозрительный выбор в пользу достоинства, в определенных обстоятельствах могут поставить этнокультурный аспект своей безопасности выше физического. Посчитавшие безопасность и достоинство равноценными или вообще затруднившиеся с ответом (чуть больше 10 %) образуют группу отложенного самоопределения, которая в критической ситуации может разделиться по двум другим группам. Такая картина получается в универсальном контексте; посмотрим, какова она в остальных контекстах.
Тут сразу бросается в глаза сильное различие между русскими респондентами и респондентами других национальностей. Только структура предпочтений уфимских татар близка структуре предпочтений русских. Для калмыков ценность национального достоинства вообще важнее ценности личной безопасности, симпатии башкир разделились между двумя ценностями поровну, а у казахов — почти поровну. По цифрам в предпоследней колонке табл. 6 можно сделать вывод о более четком ценностном самоопределении нерусских респондентов по сравнению с русскими: если некоторая часть вторых затруднилась с выбором во всех городах опроса, кроме Уфы, то среди первых только один калмык не сумел четко определиться в своих предпочтениях. Особенно выделяются респонденты из числа уфимских татар: все они сделали для себя недвусмысленный выбор в пользу либо личной безопасности, либо национального достоинства.
Далее, прослеживается тенденция к тому, что представители народов, проживающих в регионах политического доминирования «не своих» элит, особенно сильно ценят личную безопасность. Первые места по удельному весу в национально-региональных выборках респондентов, отдавших предпочтение безопасности, занимают русские в Петропавловске и Усть-Каменогорске, татары в Башкортостане, русские Элисты и русские Уфы. Видимо, это косвенно свидетельствует об обеспокоенности этнических групп, не ощущающих причастности к региональной власти, перспективой утраты безопасности.
Таблица 6
Россия и Казахстан: ценностные предпочтения респондентов
|
Контекст (всего 560 чел.) |
Доля респондентов, выбравших (%): |
Всего не сделали |
|||
|
Безопасность |
Достоинство |
То и другое |
Ничего |
выбора |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(3) + (4) |
|
|
Универсальный |
57,7 |
32,0 |
7,5 |
2,8 |
10,3 |
|
Русские: в России |
63,0 |
23,9 |
8,2 |
4,9 |
13,1 |
|
в Иркутске |
60,8 |
23,7 |
7,2 |
8,3 |
15,5 |
|
в Элисте |
65,8 |
26,3 |
5,3 |
2,6 |
7,9 |
|
в Уфе |
65,3 |
22,5 |
12,2 |
0,0 |
12,2 |
|
Калмыки в Элисте |
39,1 |
51,6 |
7,8 |
1,5 |
9,3 |
|
Башкиры в Уфе |
44,4 |
44,4 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
|
Татары в Уфе |
68,6 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Русские: в Казахстане |
63,3 |
27,3 |
6,3 |
3,1 |
9,4 |
|
в Петропавловске |
75,0 |
20,4 |
2,3 |
2,3 |
4,6 |
|
в Усть-Каменогорске |
57,1 |
31,0 |
8,3 |
3,6 |
11,9 |
|
Казахи в Казахстане |
50,0 |
40,3 |
9,7 |
0,0 |
9,7 |
Можно говорить и о прямой зависимости между государственным статусом народов и удельным весом их групп отложенного самоопределения. Чем выше и бесспорнее статус, тем больше доля респондентов, не оказавших безусловного предпочтения либо безопасности, либо достоинству. Правда, в Казахстане, где казахи сделались большинством совсем недавно и не имеют к тому же авторитетной традиции собственной государственности, эта зависимость выражена не очень четко. Зато она хорошо видна в России, где русские, каковы бы ни были особенности их положения в регионах, первенствуют в федеральных структурах власти и составляют свыше 3/ 4 населения государства, созданного их предками столетия назад. Удельный вес группы отложенного самоопределения наиболее значителен в
Иркутске, где у русских государственный статус совпадает с региональным.
Дополнительный свет на выбор молодежи между личной безопасностью и национальным достоинством проливают ответы на вопросы: «Вступили бы вы в открытый конфликт за интересы своей этнической группы?» и «Хотели бы вы вступить в партию по национальным интересам?» (табл. 7).
Как видим, доля респондентов, допускающих возможность личного участия в открытом конфликте с целью защиты этнических интересов своего народа, и в универсальном, и в большинстве национально-региональных контекстов заметно выше, чем доля тех, кто первостепенное значение придает национальному достоинству. В масштабах всей выборки эта разница выражается отношением 7 : 4 (54,6 и 32,0%). Следует, однако, учитывать временные различия в существе двух вопросов. Предложение сделать выбор между безопасностью и достоинством адресуется к текущим предпочтениям респондента. Вопрос же об участии в конфликте предполагает ситуацию, которая может возникнуть, а может и не возникнуть в будущем. Но к выбору, диктуемому гипотетической ситуацией, подходят менее серьезно. Делающие его могут просто переоценивать степень своей реальной приверженности этническим интересам. Кроме того, ситуация этнического конфликта, пусть воображаемого, проявляет прежде скрытые этнокультурные аспекты безопасности, так что в этом случае намерение участвовать в конфликте лишь отчасти противоречит ранее сделанному выбору в пользу личной безопасности.
С учетом всех этих оговорок вырисовывается уже знакомая структура ответов. Наиболее воинственно настроены респонденты, разделяющие со своей этнической группой статус меньшинства, — либо на уровне государства, либо на уровне региона. Наивысшую степень готовности к участию в этническом конфликте обнаруживают калмыки; за ними, в порядке убывания, следуют русские из обеих областей Казахстана, уфимские башкиры и русские, казахи и русские Элисты. У русских Иркутска и татар Уфы доля готовых к участию в конфликте ниже 50%. Но если первые дают один из самых высоких процентов респондентов, затруднившихся с выбором, то вторые — самый низкий. В очередной раз «двойное» меньшинство демонстрирует и трезвую оценку своего положения в регионе проживания, и отчетливое стремление в первую очередь избегнуть угроз безопасности, потенциально этим положением обусловленных.
Таблица 7
Россия и Казахстан: показатели вероятной этнополитической активности респондентов
|
Контекст (всего 560 чел.) |
Вступили бы (%): |
Не вступили бы (%): |
Не знают, вступили бы или нет (%): |
|||
|
в конфликт |
в партию |
в конфликт |
в партию |
в конфликт |
в партию |
|
|
Универсальный |
54,6 |
16,1* |
38,8 |
66,1 |
6,6 |
17,8 |
|
Русские: в России |
47,8 (9) |
14,7 (6) |
43,5 |
71,7 |
8,7 |
13,6 |
|
в Иркутске |
43,3 (10) |
11,3 (9) |
47,4 |
63,9 |
9,3 |
24,8 |
|
в Элисте |
50,0 (8) |
23,7 (2) |
36,8 |
73,7 |
13,2 |
2,6 |
|
в Уфе |
55,1 (6) |
14,3 (8) |
40,8 |
85,7 |
4,1 |
0,0 |
|
Калмыки в Элисте |
73,4 (1) |
28,1 (1) |
21,9 |
67,2 |
4,7 |
4,7 |
|
Башкиры в Уфе |
59,3 (5) |
11,1 (10) |
37,0 |
81,5 |
3,7 |
7,4 |
|
Татары в Уфе |
37,1 (11) |
2,9 (11) |
60,0 |
94,2 |
2,9 |
2,9 |
|
Русские: в Казахстане |
64,1 (3) |
17,2* (4) |
29,7 |
53,9 |
6,2 |
28,9 |
|
в Петропавловске |
63,6 (4) |
15,9 (5) |
36,4 |
56,8 |
0,0 |
27,3 |
|
в Усть-Каменогорске |
64,3 (2) |
17,8* (3) |
26,2 |
52,4 |
9,5 |
29,8 |
|
Казахи в Казахстане |
54,8 (7) |
14,5* (7) |
40,3 |
58,1 |
4,9 |
27,4 |
* Включая уже вступивших в партию по этническим интересам
В скобках — ранговый показатель.
Забегая вперед, отметим: то же самое отличает и позицию уфимских татар по вопросу об участии в политических партиях с этнической ориентацией.
Рассматривая все вообще ответы на этот последний вопрос, приходится признать, что в них, сравнительно с ответами на другие вопросы, сильно ослаблено влияние места группы в этнополитической структуре государства/региона. Все же в трех контекстах — калмыки Элисты, казахи в Казахстане и татары Уфы — наблюдается совпадение ранговых значений по показателям готовности к участию в конфликте и к вступлению в партию. Еще в четырех контекс- тах — русские Иркутска, русские Петропавловска, Усть-Каменогорска и в Казахстане в целом — различия в рангах не превышают единицу. В картину относительной близости между ответами на вопросы об участии в конфликтах и об участии в партиях не вписываются ответы башкир и русских Уфы и Элисты, а за счет двух последних групп — русских в России.
В целом же ответы на вопрос о членстве в партиях как будто подтверждают мнение об аполитичности молодежи. Однако мне представляется более убедительной несколько иная интерпретация. Ответы скорее говорят не о том, что молодежь вообще не хочет участвовать в политической жизни, а о том, что в массе своей она отвергает любые существующие партии, так как не верит в их эффективность как института достижения политических целей, представляющихся молодым позитивными. И с этой точки зрения неважно, что вменил в вину действующим партиям тот или иной респондент, не желающий в них вступать, — возможную угрозу своей безопасности из-за деятельности партий или их неспособность отстоять определенные этнические интересы.
Проведенное в универсальном контексте парное распределение данных табл. 6 и 7 показало четкую прямую зависимость между выбором в пользу безопасности и неучастием в конфликте, с одной стороны, и выбором в пользу национального достоинства и участием в конфликте — с другой. Напомним, что в масштабах всей выборки готовы были вступить в конфликт 54,6% опрошенных, исключали для себя такую возможность 38,8%, не определились в этом отношении еще 6,6%. У тех, для кого всего важнее личная безопасность, эти цифры меняются следующим образом: 43,3%, 49,8 и 6,7%. Из тех же, для кого важнее национальное достоинство, потенциальными участниками конфликта видели себя 74,8%, не видели — 21,2%, не смогли определиться — 3,8%. В группе респондентов, не сделавших выбора между безопасностью и достоинством, 55,2% вступили бы в конфликт, 34,6% не сделали бы этого и 13,8% не смогли дать ответа. Иначе говоря, эта группа составляла по преимуществу скрытый резерв приверженцев национального достоинства.
Опять-таки в масштабе выборки хотели вступить в партию по национальным интересам (и уже вступили) 16,1%, не хотели бы — 66,1%, не дали ответа — 17,8%. Из тех, кто высказался в пользу личной безопасности, к членству в такой партии положительно относились несколько меньше молодых людей (12,6 %), отрицательно — немного больше (69,3%), не определили своего отношения — значи- тельно больше (26%). Ответы ревнителей национального достоинства распределились так: хотели бы вступить или вступили 22,2%, были против этого 62%, не определились 20%. Наконец, группа респондентов, не сделавших выбора между безопасностью и достоинством, дала 15,6% голосов в пользу членства в партии (больше, чем выбравшие безопасность), 60,3% голосов против (даже меньше, чем выбравшие достоинство) и 24,1% умолчаний. Такое распределение может свидетельствовать как о некотором тяготении группы к предпочитающим достоинство, так и о том, что эта часть молодых людей вообще не связывает членство в партии с интересами безопасности или этническими интересами.
* **
Анализ ответов подтверждает предположение о том, что реальная популярность национализмов, в том числе и поощряемых государством, далеко не отвечает их саморепрезентации. Они не нашли пока в молодежной среде массовой поддержки. Это тем более примечательно, что относительный неуспех национализмов не является следствием того, что молодежь слабо знакома с ними. В сделанных респондентами определениях национализма обнаруживается едва ли не весь спектр полемики об этом феномене. Да и к сфере идеологии и политики они относят национализм чаще, чем к сфере обыденной жизни.
В какой-то степени неприятие молодежью национализма объясняется пережиточным представлением о нем как о силе, обслуживающей интересы лишь узкой группы «эксплуататоров». Еще один компонент наследия, мешающий национализму, — сохранение в его собственном дискурсе затертых речевых клише советской эпохи. Среди идеологов национализма, в особенности государственного, слишком много людей, не умеющих найти нетривиальные образы и метафоры, не обладающих элементарными навыками прямого разговора с молодежной аудиторией. Как следствие, молодежь, едва только начинают звучать фразы, ассоциируемые с «чужой» и «скучной» культурой старших поколений, просто перестает вникать в их смысл. Молодым, видимо, претят и многие формы общения, участия и организации, предлагаемые националистическими партиями и движениями. Однако гораздо большее значение имеет другая причина.
В 1993 году вдова одного из руководителей карабахских отрядов самообороны сказала мне по поводу лезгинских политиков, требовавших для своего народа самоопределения: «Если бы они могли почувствовать тяжесть цены, которую пришлось заплатить за это нам, карабахским армянам, они не были бы настроены столь непримиримо!» И она знала, что говорила. Она не только потеряла мужа и сама была ранена осколком снаряда. Она еще каждый день могла наблюдать, как трудно протекает психологическая реабилитация армянских детей, вывезенных ею в подмосковный пансионат, как эти дети вздрагивают во сне или вскакивают с диким криком: «Я азера убил! Я азера убил!» Грязь и кровь войны, которую развязали ревнители двух столкнувшихся национальных идей, каждодневно стояли у нее перед глазами; и, не отказываясь от своего прошлого, понимая, что пути назад уже нет, она тем не менее с грустью и горечью наблюдала, как захлестывает ненависть взрослых, здоровых и лично благополучных мужчин, когда они говорят о притеснениях их народа в Азербайджане…
Вот этот аспект национализма, это, весьма вероятное, следствие апелляции к национальным чувствам во имя очередного национального проекта, эта угроза человеческой безопасности — это нынешней молодежи известно лучше, чем предшествовавшим поколениям молодых, осуждавшим национализм по указке да понаслышке. И новое знание служит для молодежи сильным средством воздержания от националистического искуса.
Впрочем, анализ, проведенный в национально-региональных контекстах, во многом оспаривает картину, складывающуюся в рамках всей выборки. Мы видим, что потенциальное противоречие между установками на физическую безопасность и на безопасность этнокультурной идентичности, неявно присутствующее в восприятии безопасности чуть ли не каждого жителя России и Казахстана, в регионах актуализируется и принуждает молодежь к выбору.
Пока что молодежь, несмотря на ее возрастную склонность к срыву в тотализм, стремится сделать этот выбор как можно менее драматическим. В особенности это характерно для молодых русских. До сих пор они везде, кроме Приднестровья, предпочитали конфронтации миграцию (как внутри России, так и в Россию из-за ее пределов) или «внутреннее бегство» — уход в личную жизнь и замыкание в деятельностных нишах, не привлекающих этнических конкурентов. Существуют разные мнения о причинах подобной уступчивости; мне наиболее близка точка зрения английского ученого
Н. Мелвина: формирование русской идентичности в советское и постсоветское время протекало таким образом, что эта идентичность оказалась слабой основой для этнической мобилизации21. Однако нет убедительных доказательств того, что слабость проявляется постоянно, а не дискретно, а потому и в будущем маловероятен выбор русских в пользу конфликта, завершающегося насилием.
Главный провоцирующий фактором конфликтного выбора — этноцентристская политика правящих этнических элит в республиках России и казахской в Казахстане. Именно она убеждает меньшинства в том, что безопасность их достоинства не обеспечена и что вслед за нею могут подвергнуться угрозе (или уже подвергаются) и другие аспекты их безопасности.
Правда, выбор в пользу конфликтной защиты своей групповой идентичности обычно не увязывается с организованной политической борьбой. Наивная уверенность многих молодых в собственной самодостаточности на пути к безопасности и благосостоянию и их упорное нежелание становиться zoon politikon в политическом пространстве, усеянном обломками прошлого и опошленном грубым эгоизмом политиков настоящего, способствует тому, что и защита национального достоинства представляется молодым по преимуществу делом сугубо личным — спонтанным индивидуальным действием. Но эта модель поведения может обеспечить какой-то желаемый результат лишь при том условии, что ее будут придерживаться все участники конфликта. Если даже на минуту представить себе, что такое вообще возможно, все равно проигравших в столкновении горечь поражения и жажда реванша рано или поздно приведут в загон к национальным пастырям.
Получается, что пребывание молодежи вне поля официальной политики двойственно по своему значению. Молодые благополучно остаются в стороне от националистических проектов, грозящих человеческой и национальной безопасности. Но из-за своей отстраненности они не образуют и отряда активных защитников безопасности. Своим поведением они как бы говорят: мы не верим в возможность защиты нашей безопасности политическими средствами, мы защитим ее сами, частным образом, по своему усмотрению. Однако как не может быть обеспечение безопасности монопольным правом только государства, так не может оно быть и сугубо частным правом. Ибо безопасность — как общая, так и индивидуальная — общественное по своей природе благо, и «обеспечена она может быть только как коллективное предприятие» 22.
Список литературы Молодежь, национализм и безопасность (по материалам опросов в России и Казахстане)
- Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass., 1992. P. 8
- Gilbert G. Tackling the Causes of Refugee Flows//Spencer S. (ed.). Strangers & Сitizens: A Positive Approach to Migrants and Refugees. London, 1994. Р. 24-26.
- Parekh B. Ethnocentricity of the nationalist discourse//Nations and Nationalism, 1995. Vol. 1. Part 1. Р. 25-26.
- Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford, 1983. Р. 1.
- Коротеева В. Существуют ли общепринятые истины о национализме?//Pro et Contra, 1997. Т. 2. № 3. С. 190, 195.
- Latawski P. Central Europe and European security//Park W. & Rees G. W. (eds.). Rethinking Security in Post-Cold War Europe. London and New York, 1998.
- Эриксен Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 197-202.
- Панарин С. Восток глазами русских//Родина, 1993. № 4. С. 13-18.
- Пастухов В. Парадоксальные заметки о современном политическом режиме//Pro et Contra, 1996. Т. 1. № 1. С. 6-21
- Амрекулов Н. Правящая элита Казахстана: аномалия или норма? (К дискуссионной постановке проблемы)//Политическая элита Казахстана: история, современность, перспективы. Материалы «круглого стола», Алматы, 5 февраля 2000 г. Алматы, Фонд имени Фридриха Эберта -Инновационный Информационный фонд, 2000. С. 6-34.
- Равио Ж.-Р. Феномен Татарстана и федеративное строительство в России//Вестник Евразии, 1998. № 1-2 (4-5). С. 187-200.
- Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York, 1983. P. 143
- Гучинова Э.-Б. Республика Калмыкия: модель этнологического мониторинга. М., 1997
- Рабинович И., Фуфаев С. Хозяин (штрихи к политическому портрету Муртазы Рахимова)//Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 2. С. 71-84.
- Сафин Ф. Принципы этнополитического развития Башкортостана. М., 1997. С. 173-184.
- В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. Под ред. А. Р. Вяткина, Н. П. Космарской, С. А. Панарина. М., 1999. С. 175-176.
- Панарин С. Русскоязычные у внешних границ России: вызовы и ответы (на примере Казахстана)//Диаспоры, 1999. № 2-3. С. 136-168.
- Melvin N. The Russians: Diaspora and the End of Empire//Перестройка и после: Общество и государство в СССР, России и новых независимых государствах. 1988-1998. Международный симпозиум к десятилетию М-БИО-ИГПИ 22-25 октября 1998 года. Тезисы докладов. М., 1998. С. 45.
- Rothschild E. What is Security//Daedalus, Summer 1995. Р. 63.