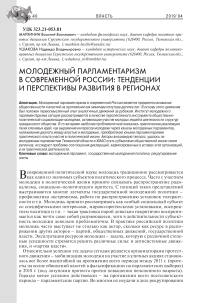Молодежный парламентаризм в современной России: тенденции и перспективы развития в регионах
Автор: Мархинин Василий Васильевич, Ушакова Надежда Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
Молодежный парламентаризм в современной России является предметом внимания общественности и властей на протяжении как минимум полутора десятка лет. В основу этого движения был положен переосмысленный опыт аналогичных движений за рубежом. Институт молодежного парламентаризма сегодня рассматривается в качестве перспективного инструмента общественно-политической социализации молодежи, активизации участия молодых людей в деятельности структур гражданского общества. В то же время наиболее проблематичной оказалась практическая реализация таких ключевых идей, как выражение интересов молодежи через каналы молодежных парламентов, налаживание диалога между властью и молодежью, приобретение юными парламентариями практического опыта участия в политической жизни. Авторы анализируют вопрос, удалось ли молодежным парламентам Тюменской области и ХМАО стать субъектами общественной жизни своих регионов, исследуют проблему соотношения деклараций, зафиксированных в уставах этих организаций, и их практической деятельности.
Молодежный парламент, государственная молодежная политика, рекрутирование элиты
Короткий адрес: https://sciup.org/170170989
IDR: 170170989 | УДК: 323.21-053.81 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6583
Текст научной статьи Молодежный парламентаризм в современной России: тенденции и перспективы развития в регионах
В современной политической науке молодежь традиционно рассматривается как один из значимых субъектов политического процесса. Часто с участием молодежи в политической жизни принято связывать распространение радикализма, социально-политического протеста. С позиций таких представлений выстраиваются многие элементы государственной молодежной политики – профилактика экстремизма, работа по распространению установок толерантности и т.п. Молодежь принято рассматривать как особый социальный субъект со специфическими интересами, мировоззренческими установками, восприятием политики и т.п. – такая трактовка порой довольно некритично воспринимается как нечто само собой разумеющееся, хотя в действительности субъектность молодежи довольно проблематична. В практике российской политики молодежь часто выступает не столько как актор, сколько как ресурс в распоряжении других акторов – партий, общественных движений, государственной власти. Эксплуатация ресурсов молодежи – задача, которую с различной степенью успешности стремятся решить различные силы: и антисистемные движения, и «партия власти».
Относительно успешно эта задача сегодня решается организаторами протестного движения – мобилизация молодежи на участие в уличных акциях становилась все более масштабной на протяжении всего периода между 2011 г. (протесты на волне обвинений властей в фальсификациях на парламентских выборах) и 2018 г. (под лозунгами протеста против повышения пенсионного возраста). Гораздо менее успешно действовали – на протяжении всего постсоветского периода – парламентские партии. Во многом их неудачи в деле рекрутирования молодежи в свои ряды были обусловлены использованием устаревших подходов, воспроизводивших комсомольский опыт советской эпохи.
Параллельно с деятельностью партий на протяжении последних лет активно развивается инициированное властями движение так называемого молодежного парламентаризма. Эта инициатива представляла собой попытку перенести на отечественную почву институт, сформировавшийся в Западной Европе, и, как полагали некоторые исследователи, восполнить вакуум, возникший после исчезновения комсомольских структур [Кочетков 2005: 52], хотя эта цель и не декларировалась в каких-либо официальных документах. Стоит, между прочим, отметить, что статус этих документов был, мягко говоря, довольно скромным: так, VI форум молодых парламентариев (2009) ссылался в своей резолюции на такой руководящий документ, как инструктивное письмо Министерства образования России от 24.04.2003 № 2 «О развитии молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации»1. Тем не менее сами участники движения формулировали задачи, явно выходящие за пределы той сферы, где инструктивные письма министерства образования могли иметь хоть какое-то значение. В той же резолюции мы читаем, что в качестве своей миссии делегаты форума видят «участие в определении вектора развития России через представительство молодежи во власти… создание действенных механизмов включения молодежи в процессы принятия решений и формирование молодежной политики в стране». На сегодняшний день эти лозунги, провозглашенные в 2009 г., так же далеки от воплощения, как и 10 лет назад. Поучительной иллюстрацией состояния молодежного парламентаризма может служить хотя бы сайт Молодежного парламентского движения России. В апреле 2019 г. в процессе работы над настоящим исследованием мы могли констатировать, что последнее обновление новостной ленты движения имело место 21.12.2017, интервал между новостями на заглавной странице сайта составлял от семи месяцев (21 декабря и 6 апреля 2017 г.) до двух с лишним лет (6 апреля 2017 г. и 22 марта 2015 г.).
Как бы то ни было, создание соответствующих структур на уровне регионов и муниципалитетов активно продвигалось местными властями, их деятельность должна была привести к накоплению некоторого опыта, заслуживающего анализа и осмысления. В представленном ниже исследовании будет проанализирован опыт деятельности таких собраний в Тюменской обл. и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Эмпирическим материалом для представленного ниже анализа деятельности молодежных парламентов послужат наблюдения за Общественной молодежной палатой ІІІ созыва при Тюменской областной думе, Молодежной палатой при Думе ХМАО–Югры V созыва (2015 г.) и Молодежным советом при главе г. Сургута.
Общественная молодежная палата ІІІ созыва при Тюменской областной думе начала осуществлять свою деятельность с апреля 2011 г.2; в ее состав вошли 39 чел. Молодежная палата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана 10 декабря 2004 г.3; в качестве целей ее деятельности декларировалось обеспечение активного участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики на территории ХМАО, содействие деятельности окружной Думы в сфере законодательного регулирования прав и закон- ных интересов молодежи. Аналогичные цели декларировались и при создании тюменской Палаты1.
В состав Общественной молодежной палаты ІІІ созыва при Тюменской областной думе входили в основном студенты и выпускники тюменских вузов в возрасте от 25 до 35 лет. Среди них были известные спортсмены Тюменской обл., молодые индивидуальные предприниматели, активисты политических партий и беспартийные общественные деятели. На момент вхождения в состав палаты ее члены уже были состоявшимися в социальном плане людьми: имели постоянное место работы и занимали должности, соответствующие их образованию и профессиональной квалификации.
В состав молодежного парламента при Думе ХМАО – Югры на 2015 г. входили 49 чел., среди которых широко представлены работники предприятий нефтегазовой сферы, молодые специалисты муниципальных администраций, представители политических партий парламентской четверки, в т.ч. депутаты местных представительных собраний. Возраст членов парламента варьировался от 25 до 35 лет.
За период своих полномочий Молодежная палата ІІІ созыва провела 5 заседаний и 32 заседания совета Молодежной палаты2. Участвовали члены Молодежной палаты и в заседаниях Тюменской областной думы, заседаниях комитетов и постоянной комиссии Думы.
Тем не менее реальная деятельность палаты была в основном довольно далека от обозначенных в ее уставе целей и задач.
В порядке разработки предложений по совершенствованию областного законодательства палата выработала некоторое число законопроектов: «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области», «О внесении изменения в статью 34 Устава Тюменской области» и др. проекты, не связанные с задачей совершенствования областного законодательства, затрагивающего интересы молодежи.
Практически все мероприятия палаты имели не политическую, а социальнокультурную направленность. Так, например, в апреле–мае 2011 г. палата приняла участие в федеральном проекте «Больше кислорода» (экологическое воспитание школьников, восстановление лесного покрова и т.п.); 31 мая 2011 г. проводилась акция «Дыши свободно» (информирование пассажиров и водителей общественного транспорта о существовании закона, запрещающего курение в транспорте); в мае 2012 г. реализовывался проект «Турник в каждый двор»3. Единственным исключением, пожалуй, можно с некоторой натяжкой считать участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «АКТИВ – 2011» 22–26 сентября 2011 г. (встреча молодых парламентариев и политиков с целью участия в образовательном курсе «Успешный политик»). Впрочем, палата в этом случае не выступала в качестве организатора форума, а лишь делегировала для участия в нем своих представителей.
Молодежный парламент при Думе ХМАО работал в рамках закона «О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автоном- ном округе – Югре»1 и постановления Думы ХМАО «О Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва». Уставные документы парламента ставили перед ним задачи «обеспечения активного участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики в автономном округе, содействия деятельности Думы автономного округа в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи».
Деятельность югорских молодых парламентариев соответствовала поставленной цели в большей мере, чем у их тюменских коллег. Так, в 2014 г. состоялись три заседания молодежного парламента, на которых было рассмотрено более 40 вопросов социально-экономического развития ХМАО. Совместно с молодежными палатами муниципалитетов, Общественной палатой и Думой ХМАО в 2013 г. были проведены около 30 образовательных мероприятий, направленных на политическую социализацию молодежи («Школа молодого политика», молодежный форум «Гражданский курс», конкурс «Моя страна – моя Россия», заседания дискуссионного клуба «Диалог» на тему «Совершенствование законодательства в сфере молодежной политики» и др.).
В ходе этих мероприятий молодые парламентарии вырабатывали предложения по разработке и совершенствованию нормативных правовых актов в сфере молодежной политики автономного округа; все они передавались профильным структурам окружной Думы.
Проводились и другие мероприятия политической направленности (хотя и не связанные с молодежной политикой напрямую). Так, в конце июня 2014 г. состоялась встреча членов рабочей группы молодежного парламента по анализу эффективности использования бюджетных средств с руководителями Счетной палаты, Службы контроля, Департамента государственного заказа ХМАО и другими должностными лицами.
25 ноября 2014 г. был дан старт седьмому конкурсу «Моя законотворческая инициатива», учредителем которого выступила Дума ХМАО, а организатором – молодежный парламент. В рамках парламента действовали рабочие группы по вопросам электронного правительства, жилищного законодательства, решения проблем детских садов, по анализу эффективности использования бюджетных средств, соблюдению запрета на продажу алкоголя после 20:00.
Доступные исследователю сведения о деятельности трех описанных выше молодежных собраний не позволяют говорить о том, что они в действительности играют роль института, выражающего интересы молодежи. Вопреки тому, что в литературе неоднократно высказывалась мысль, что организаторы молодежных парламентов будто бы желают «видеть в их составе молодежных лидеров, представляющих все социальные группы молодежного социума, группы единомышленников с активной жизненной позицией» [Фурсов 2006: 102], эти «парламенты» далеко не отражают реальный социальный состав российской молодежи.
Курьезом можно считать и само слово «парламент», используемое для обозначения этих собраний. Членов этих «парламентов» не избирают те, чьи интересы они, согласно приведенным выше декларациям, должны выражать. (Заметим в этой связи, что молодежные парламенты в западноевропейских странах, например в Великобритании, формируются при помощи всеобщего, прямого и равного голосования, в котором могут принять участие все молодые люди1.) В своей практической деятельности (если она ведется) российские молодежные парламенты являются, в лучшем случае, политическими клубами, объединяющими некоторую часть молодежного сегмента элиты.
На практике вовлечение сколько-нибудь широких кругов молодежи ХМАО и Тюменской обл. в политическую активность не является приоритетным направлением для этого движения. «Молодежный парламентаризм» не вызывает и особого интереса у политических партий: при том, что партии располагают значительным молодежным активом, в молодежном «парламенте» они практически не представлены. Более того, в ряде случаев (например, в случае молодежного совета при главе Сургута) представительство партий было вовсе исключено его уставными документами.
Завершая краткий обзор деятельности молодежных парламентов, остается лишь констатировать несоответствие реального содержания их деятельности и деклараций, содержащихся в их уставных документах. Молодежное парламентское движение функционирует в отрыве и от широких кругов молодежи, и даже в отрыве от среды молодых политических активистов – партийных и беспартийных. Ничего похожего на отстаивание социальных интересов молодежи в деятельности этих «парламентов» нет: действительно актуальные проблемы, стоящие перед молодыми людьми региона, не входят в круг интересов «парламентариев», что, в общем-то, не удивительно, если вспомнить об особенностях социального состава «парламентов». Они по преимуществу объединяют некоторую часть преуспевающей молодежи и выполняют функцию делового и политического клуба, облегчающего путь в состав региональной элиты.
Подводя итог краткого исследования молодежного парламентаризма, нам приходится констатировать полное несоответствие реальной практики обследованных «парламентов» тем целям и идеалам, которые провозглашались при создании движения. Это положение вещей, на наш взгляд, было обусловлено в первую очередь разрывом между сутью парламентаризма и тем вектором развития движения, который был задан изначально. Молодежные «парламенты» в России начали свою историю в условиях проводимого правящей элитой тренда на сокращение пространства политической конкуренции: в 2003 г. не только появилось на свет упомянутое выше директивное письмо министерства образования, но и началась не закончившаяся вплоть до сегодняшнего дня история «четырехпартийщины» – электорального режима, созданного при помощи манипуляций нормами избирательного и партийного права. От правящих сил, усиленно формировавших инструменты сохранения своей гегемонии на неопределенно долгий срок, вряд ли можно было ожидать создания дополнительного пространства для политической конкуренции в лице хотя бы такого института, как молодежные парламенты. В цитированной выше резолюции форума парламентского движения ставилась задача перехода к «формированию молодежных парламентов путем прямых выборов с использованием технологий электронного голосования». Решение этой задачи было заведомо невозможным для структур, санкционированных второстепенным циркуляром ведомства, имеющего весьма опосредованное отношение к публичной политике. Парламентаризм не знает иного способа выражения социальных интересов, кроме тех, что связаны с избранием представителей, полномочных отстаивать интересы делегировавшего их сообщества. Сегодня надежд на учреждение соответствующих институтов в рамках молодежного «парламентского» движения в
России нет и в силу абсолютно предсказуемой перспективы их превращения в трибуну для антисистемного протеста, и в силу продолжения тренда на сокращение пространства политической конкуренции в целом: механизмы прямых выборов сегодня активно вытесняются из практики формирования органов местного самоуправления. Таким образом, состояние молодежного парламентаризма лимитируется обстоятельствами общеполитического характера, и ожидать качественных прорывов в его развитии не приходится. Поиск путей политической социализации и рекрутирования молодежи в профессиональную политику остается одной из актуальных задач политического развития страны, и, по всей видимости, такое положение вещей сохранится в обозримом будущем.
Список литературы Молодежный парламентаризм в современной России: тенденции и перспективы развития в регионах
- Кочетков А.В. 2005. Молодежный парламентаризм в России: понятие и правовой статус. - «Черные дыры» в российском законодательстве. № 1. С. 51-57
- Фурсов О.Б. 2006. Молодежный парламентаризм в современной России. Самара: Агентство по реализации молодежной политики. 168 с