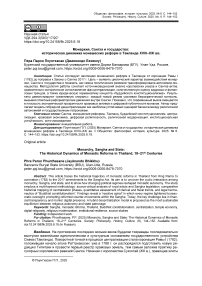Монархия, Сангха и государство: историческая динамика монашеских реформ в Таиланде XVIII–XXI вв.
Автор: Пхунтхасан П.П.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья исследует эволюцию монашеских реформ в Таиланде от коронации Рамы I (1782) до поправок к Закону о Сангхе 2017 г. Цель – выявить циклический характер взаимодействия монархии, Сангхи и государства и показать, как смена политических режимов трансформировала автономию монашества. Методология работы сочетает источниковедческий анализ королевских указов и Сангхаактов, сравнительноисторическое сопоставление фаз централизации, количественную оценку кадровых и финансовых трендов, а также юридическую герменевтику концепта «буддийского конституционализма». Результаты демонстрируют «реактивную спираль»: каждый новый режим усиливал бюрократический контроль, вызывая ответные реформаторские движения внутри Сангхи. Показано, что современный вызов смещается в плоскость экономической прозрачности храмовых активов и цифровой публичности монахов. Автор предлагает модель гибридной децентрализации как наиболее устойчивый сценарий баланса между религиозной автономией и государственным патронажем.
Сангха, монашеские реформы, Таиланд, буддийский конституционализм, централизация, храмовая экономика, цифровая религиозность, религиозная модернизация, институциональная устойчивость, источниковедение
Короткий адрес: https://sciup.org/149148204
IDR: 149148204 | УДК: 294.3(593)“17/20” | DOI: 10.24158/fik.2025.6.18
Текст научной статьи Монархия, Сангха и государство: историческая динамика монашеских реформ в Таиланде XVIII–XXI вв.
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (БГУ), Улан-Удэ, Россия, ,
систематически прибегали к реформированию монашеской общины, используя религиозный авторитет для политической легитимации, внутренней консолидации и укрепления государственного контроля над духовенством.
Наиболее значимые институциональные преобразования были инициированы королем Монгкутом (Рамой IV, 1851–1868), создавшим реформаторское течение Дхаммаюттиканикая с высокими стандартами соблюдения монашеского устава (Виная), а затем существенно расширены его преемником королем Чулалонгкорном (Рамой V, 1868–1910). Как подчеркивают Д. Са-енкум и А. Сангкачан, именно последовательная политика обоих монархов сформировала долгосрочную юридическую и административную рамку, определяющую взаимоотношения буддийского монашества и тайского государства на протяжении последующих десятилетий (Саенкум, Сангкачан, 2020).
Принятый во время военного режима фельдмаршала Сарата Танарата Закон о Сангхе 1962 г. (B.E. 2505) вновь ввел абсолютную, вертикально-иерархическую модель монастырского управления: был создан Высший совет Сангхи с полномочиями законодательной, исполнительной и дисциплинарной власти, а его деятельность финансировалась и курировалась государственным аппаратом через Департамент религиозных дел (сейчас – Национальное управление буддизма). Такая бюрократизация усилила зависимость верхних звеньев монашества от политической власти и к 1980–1990-м гг. сопровождалась снижением уровня общественного доверия и широкой дискуссией о финансовой прозрачности и требованием «вернуться к первоначальной виная» как к более легитимному основанию внутренней дисциплины.
Поправка к Закону о Сангхе (№ 3) B.E. 2560 (2017), одобренная Национальной законодательной ассамблеей 29 декабря 2016 г. и обнародованная 07 февраля 2017 г., восстановила исключительное право монарха единолично назначать Верховного патриарха, исключив прежние требования о предваренной номинации со стороны Верховного совета Сангхи и о старшинстве кандидата. Это решение углубило институциональную зависимость высшего духовенства от короны и вновь проявило традиционное напряжение между монастырской автономией и государственным патронажем.
Важно подчеркнуть, что историческая последовательность ключевых законодательных актов – 1902, 1962, 1992, 2017 – показывает, что каждое ужесточение контроля неизменно порождало ответные поиски внутренних механизмов саморегуляции, подтверждая «реактивную спираль» тайских монашеских реформ. Новые законодательные инициативы стабилизируют административную вертикаль Сангхи, но одновременно обостряют противоречия между централизи-рованными и периферийными формами буддийской религиозности, что подчеркивает циклическую, а не линейную динамику преобразований.
Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием систематического труда, который бы проследил эволюцию институционального статуса тайской Сангхи в неразрывной связи с политическими режимами страны. Хотя в отечественной науке уже существует общий обзор тайского буддизма, посвященный главным образом доктринальным и культурно-историческим аспектам, однако он не охватывает подробно механизмы централизации и децентрализации монашеского управления. Зарубежная литература представлена преимущественно кейс-стади и анализом отдельных законодательных актов, что оставляет без внимания сквозную хронологию реформ.
В российской буддологии, исторически сфокусированной на тибетском, монгольском и бурятском ареалах, тайская Сангха фигурирует лишь эпизодически: в статьях по сравнительному государственно-религиозному праву, кратких разделах учебных курсов и докладах на специализированных конференциях. Монографии, посвященной именно институциональным трансформациям тайского монашества, пока не издано. Поэтому комплексный анализ реформ – с четкой периодизацией, сопоставлением правовых норм и оценкой современных вызовов – востребован как среди отечественных исследователей буддизма и права, так и в широкой востоковедной аудитории, которой необходима целостная картина взаимодействия Сангхи, государства и общества в Юго-Восточной Азии.
Тем не менее, юридические коллизии между монастырской Винаей и гражданским правом регулярно становятся предметом общественных дискуссий в Таиланде (Баворнсилават и др., 2024: 149–150). Циклическая централизация управления Сангхой при смене режимов приводит к регулярному снижению уровня доверия и усилению общественных напряжений (Пумара, 2017: 65–66). Экономическая непрозрачность храмовых активов подрывает моральный авторитет монашества и затрагивает проблему религиозной свободы (Пхонтема, 2020: 87–88). Расширение цифрового пространства существенно увеличивает публичную активность монашества, требуя исторического контекста для выработки адекватных регулятивных подходов (Пиясило, Конгпан, 2020: 39–40). Концепция «буддийского конституционализма» призывает переосмыслить баланс прав и обязанностей буддизма в современной конституционной системе1, а историко-правовой анализ позволяет раскрыть малоизученные механизмы саморегуляции Сангхи (Патипанават и др., 2023: 491–496).
Объект исследования – тайская Сангха как ключевой социально-политический и религиозный институт.
Предмет – механизмы и последствия монашеских реформ с XIII в. до поправок 2017 г. Цель исследования – реконструировать циклическую природу монашеских реформ, выявив их зависимость от политических режимов и изменения монашеской автономии.
Задачами исследования являются следующие: 1) проследить эволюцию законодательных актов (1902, 1941, 1962, 1992, 2017); 2) раскрыть роль королевской и военной власти в инициировании реформ; 3) проанализировать реакцию монашества на процессы централизации; 4) оценить современные вызовы (экономическая прозрачность, цифровизация, религиозный национализм).
Научная новизна работы состоит в создании комплексной диахронной модели, охватывающей правовые, политологические и источниковедческие аспекты. Введен концепт «реактивной спирали реформ», позволяющий интерпретировать исторические и современные трансформации тайского монашества в единой аналитической рамке.
Методологическая основа исследования сформирована многоуровневым анализом двадцати рецензированных публикаций, подобранных по критериям тематической репрезентативности и хронологической полноты. Эти работы аккумулируют широкий спектр первичных данных – от королевских указов и актов Сангхи до монастырских хроник, социологических опросов и актуальных юридических комментариев – обеспечивая системный, критически опосредованный доступ к исходным документам через профессиональную интерпретацию авторов-специалистов.
При этом для достижения заявленной цели исследование опиралось на сочетание взаимодополняющих методологических уровней, последовательно раскрытых ниже.
-
1. Источниковедческий пласт. На первом этапе проведен текстологический разбор нормативных материалов, охватывающих всю дугу 1782–2017 гг. – от первых монашеских законов короля Рамы I, регламентировавших поведение монахов и трактуемых К. Тонсакулрунгуангом, а также ранних указов эпохи Раттанакосин о храмовых землях и королевском патронаже, рассмотренных в работах А. Дюбюса и Д. МакКарго, до кодифицированных Сангха-актов 1902, 1941, 1962, 1992 гг. и поправок 2017 г. (их эволюция и проблематика статуса монашеских администраторов подробно представлены у П. Лимпрасерта и В. Таномкула).
-
2. Сравнительно-исторический подход. Реформы были соотнесены между собой по четырем аналитическим осям: 1) структура управления; 2) дисциплинарные стандарты; 3) экономический режим; 4) публичная роль Сангхи. При этом данное сопоставление высветило повторяющиеся «узлы» централизации и реактивные ответные процессы, формируя основу модели «спиральной реформы».
-
3. Количественный анализ. Статистические данные о численности монашеских администраторов (сангхатикан, sanghātikān) и объемах бюджетных трансфертов, опубликованные П. Лимпра-сертом и В. Таномкулом, подвергнуты контент-анализу для фиксации трендов кадровой и финансовой динамики (Лимпрасерт, Таномкул, 2022: 422–423). Количественные наблюдения сопоставлялись с описаниями кризисов доверия и реформаторских инициатив, что позволило проверить эмпирическую валидность качественных выводов.
-
4. Юридическая герменевтика. Концепты «dhammarāja», «буддийский конституционализм» и формула «free-but-unequal» интерпретированы критически в контексте тайской конституционной доктрины на основе работ К. Тонсакулрунгуанга (Tonsakulrungruang, 2021: 78–83). Это обеспечило теоретическую рамку для оценки баланса привилегий и обязанностей буддизма в государственном устройстве.
Для характеристики раннего периода 1782–1851 гг. опираемся на аналитические реконструкции становления королевского патронажа и зарождения централизационной логики Сангхи у Д. МакКарго (McCargo, 2012) и А. Дюбюса (Dubus, 2017), а также на подробное исследование религиозных реформ Рамы IV у С. Секхампхана (Секхампхан, 2021). Такое расширение временного охвата позволяет проследить эволюцию ключевых понятий, процедур управления и легити-мационных стратегий тайской Сангхи от основания династии Чакри до поправок 2017 г., тем самым обосновывая датировку исследования периодом XVIII–XXI вв.
При этом полевые исследования и интервью сознательно не проводились; акцент на опубликованных и верифицируемых материалах повышает воспроизводимость результатов, хотя и задает ограничение: выводы зависят от степени полноты и критичности вторичной литературы. Тем не менее синтетическое соединение источниковедческого, сравнительно-исторического, количественного и герменевтического уровней позволило выстроить целостную картину эволюции монашеских реформ и оценить ее в политико-правовой перспективе.
Обзор литературы . Рассмотрим специфику публикаций поэтапно.
-
1. Раттанакосинский предреформенный этап (1782–1851). Уже первые три монарха династии Чакри заложили основы централизованного контроля над Сангхой. Королевские указы Рамы I–III регламентировали перепись храмовых земель и порядок канонических экзаменов, создав прецедент королевского надзора за дисциплиной монахов (McCargo, 2012; Dubus, 2017). Строительство храма Изумрудного Будды (Wat Phra Kaew, 1784) в составе королевского дворца обозначило символическую триаду «нация – король – Будда», подчеркнув концепт монарха-хранителя Сангхи1. В 1812 г. Рама II впервые сместил настоятеля храма Махатхата (Wat Mahathat) королевским эдиктом, тем самым институционализировав прямую карательную юрисдикцию монарха над аббатами2. Данные меры породили дисциплинарную риторику, которую позднее радикализировал Дхаммают-движение Рамы IV, – отсюда концептуальный «мост» к реформам второй половины XIX в.
-
2. Правовая динамика (1962–2024). Закон о Сангхе 1962 г. – признанный исследователями «основой современной административной системы» – оформил жесткую вертикаль «Верховный патриарх – Верховный совет» (Supreme Sangha Council) и ввел категорию монаха-чиновника, тем самым юридически закрепив государственный патронаж (Кавасакатаммо, 2020: 78–82). Поправки 1992 г. усилили бюрократизацию Сангхи и зависимость распоряжения земельными участками храмов от одобрения Национального управления по делам буддизма (National Office of Buddhism, NOB) (Парияткиттаяпхон, Таномкул, 2024: 198–200). Детальный анализ ст. 37–39 и 54 выявляет «юридическую неясность» в определении обязанностей настоятелей, что порождает ситуацию двойного подчинения и увеличивает вероятность злоупотреблений (Лимпрасерт, Таномкул, 2022: 418–423). Поправка к Закону о Сангхе 2017 г. вернула монарху исключительное право утверждения кандидатуры Верховного патриарха, что, по мнению исследователей, входит в противоречие с канонической процедурой (sanghakamma), предусмотренной в дисциплинарном кодексе (Патипанават и др., 2023: 489–490). При этом административные изменения и практики управления тайской Сангхи, сформировавшиеся под влиянием законодательства второй половины XX и начала XXI вв., подробно рассмотрены в исследовании Т. Хонгтонг (Хонгтонг, 2021: 31–44).
-
3. Политические окна возможностей. Используя теорию политических возможностей (political opportunity structure, POS), Пумара показывает, что авторитарные режимы 1941, 1962 и 2017 гг. сужают общественное пространство, одновременно открывая «окна» для ориентированной на государство реструктуризации Сангхи (Пумара, 2017: 65–73). Аналогичные выводы делает А. Дюбюс, указывая на политическую обусловленность взаимодействий тайского государства и буддийских институтов на протяжении XX в. (Dubus, 2017: 45–56). Д. МакКарго подтверждает, что политическая нестабильность и смена режимов неизменно сопровождались попытками политической элиты усилить контроль над буддийским монашеством через законодательные и административные механизмы (McCargo, 2012: 627–642). Скандалы 2010-х гг. вновь активизировали «охранительную» трактовку ст. 67 Конституции 2017 г., закрепив приоритет «защиты буддизма» (Tonsakulrungruang, 2021: 78–80).
-
4. Социальная роль Сангхи. Отчет Центра буддологических исследований Университета Чулалонгкорн прогнозирует три сценария формирования «гражданской Сангхи» в 2020-е гг., подчеркивая решающее значение правовой грамотности монахов и финансовой прозрачности храмов3. Как свидетельствуют эмпирические данные, представленные Пиясило (Пиясило, Конгпан, 2020: 38–40), количество монашеских каналов на платформе YouTube растет экспоненциально, при этом 58 % респондентов выражают поддержку «миротворческой» политической активности монастырей. Эти сведения указывают на становление новой публичной сферы, в которой Сангха выступает не только объектом патронажа, но и самостоятельным субъектом гражданского дискурса.
-
5. Исторические корни централизации. Диссертация Нанагары демонстрирует, что Закон 1902 г., разработанный под влиянием реформаторской Дхаммаюттиканикаи (Dhammayuttikanikāya), сформировал административную иерархию, подчинив Маханикаю (Mahānikāya) дисциплинарным стандартам «дворцового» монашества4. Более общая концептуальная и историческая эволюция Сангхи, ее доктринальные основания и феноменологические проявления подробно рассмотрены в работе П.Р. Инпеанга (Инпеанг, 2021). Реформы Рамы IV, детально описанные Секхампханом и Пимпун, подчеркивают роль строгой палийской учености как «дисциплинарной витрины» внешней политики государства (Секхампхан, 2021: 241–246; Пимпун, 2021: 28–32).
Кроме того, историческое исследование П. Пабхакаро и коллег демонстрирует связь между буддистскими реформами на Шри-Ланке, в царстве Мон и Сиаме, подчеркивая ключевую роль Дхаммаюттиканикаи как транслирующего звена буддийской дисциплины и учености, определившего дальнейшую централизацию тайского монашества (Пабхакаро и др., 2020). Именно в этот период закрепляется легитимационная связка «чистота дисциплины = цивилизованность нации», впоследствии многократно воспроизводимая.
В совокупности эти четыре блока источников создают целостную картину: 1) повторение нормативного цикла «закон → централизация → кризис → новый закон»; 2) долговременная кадровая асимметрия между реформаторским меньшинством и массовыми монастырями; 3) возрастающая роль экономической и цифровой прозрачности; 4) юридические споры о границах монархического патронажа и монашеской субъектности.
Результаты . Исследование позволяет сгруппировать результаты в ряд тематических блоков.
-
1. Предреформенный раттанакосинский сегмент (1782–1851 гг.). Уже первый монарх династии Чакри – Рама I (1782–1809) – провозгласил «возрождение буддизма» стратегической задачей: во дворце воздвигается храм Изумрудного Будды, созывается совет ученых монахов для полной редакции Типитаки, а в 1805 г. утвержден свод «Законов трех печатей», юридически закрепивший прямую юрисдикцию трона над монашеской корпорацией. В эти же годы зарождается практика королевских экзаменов по Палийскому канону, которая позднее станет ключевым инструментом кадрового отбора. Рама I издал и первый «Кодекс для монахов», позже многократно обновляемый, но с ограниченной эффективностью за пределами столицы.
-
2. Королевская парадигма «дисциплина ↔ легитимация». Исторический материал, отслеживаемый с XIII в., демонстрирует, что каждая царствующая династия воспринимала Сангху в качестве символической опоры суверенитета. Институт реформы выступал своеобразным социальным контрактом: государство гарантировало охрану монастыря и тем самым получало право перераспределять кадровые и имущественные ресурсы. Формула «чистая Виная – надежное правление» неоднократно позволяла политическому центру превращать религиозный дискурс в инструмент модернизационных преобразований.
-
3. Механизм «реактивной спирали». Эмпирические данные подтверждают циклический характер реформ. Сначала фиксируется «кризис чистоты» – нравственный, финансовый либо региональный; далее принимается нормативный акт, централизующий управление и вводящий новые механизмы контроля; спустя одно-два поколения накапливаются побочные эффекты (бюрократические задержки, преобладание представителей старшего поколения в руководящих органах, отчуждение мирян), что инициирует очередной призыв к «очищению» и запускает новый виток цикла.
-
4. Кадровая асимметрия как внутренний двигатель изменений. Структурный дисбаланс между численным большинством провинциального духовенства и непропорционально высоким представительством элитарных групп в высших органах управления генерирует латентную конкуренцию. Государственный центр отвечает ужесточением формальных требований к образованию, стажу и экзаменационным баллам, усиливая вертикаль, но одновременно оттесняя на периферию местные линии преемственности и стимулируя поиск альтернативных площадок лидерства, включая цифровые.
-
5. Экономическая прозрачность в роли триггера новейших преобразований. Расхождение между нормами гражданского права и монастырской дисциплины в вопросах собственности размывает персональную ответственность за управление храмовыми активами. Современные инициативы по внедрению электронного кадастра и ограничений долгосрочной аренды свидетельствуют о переходе от морально-этической риторики к техническому регламентированию. Именно экономический контроль стал основным каналом расширения государственного надзора в XXI в.
-
6. Цифровая публичная сфера и новая субъектность монашества. Экспоненциальный рост онлайн-проповедей и медиа-активизма выводит значительную часть монашеской коммуникации за пределы традиционной иерархии, формируя горизонтальные сообщества мирян-подписчиков. Это изменяет конфигурацию власти: настоятель становится одновременно администратором цифрового контента и публично отчетным актором. Государственный аппарат пока не располагает устойчивыми механизмами взаимодействия с этой «сетевой» Сангхой.
При Раме III (1824–1851) бурный рост торговли и земельных доходов храмов способствовал распространению обмена религиозных титулов на денежные пожертвования; сам монарх распорядился изъять из обращения печатные экземпляры «Законов трех печатей», подчеркивая сакральность права и концентрируя доступ к нему внутри дворца. Усиление экономических и дисциплинарных перекосов породило «кризис чистоты», который стал непосредственным катализатором реформ короля Монгкута.
Необходимо отметить, что будущее тайского монашеского института формируется в рамочных условиях трех взаимосвязанных сценариев, каждый из которых характеризуется собственным балансом возможностей и рисков.
-
1. Консервативная стабилизация. Сохраняется существующая централизованная вертикаль. Верховный совет ужесточает критерии отбора кандидатов на административные должности, расширяет обязательную сертификацию монашеских администраторов (сангхатикан, sanghātikān) и устанавливает регулярный контроль над цифровыми системами учета пожертвований. Подобная траектория повышает предсказуемость дисциплинарных процедур и минимизирует репутационные кризисы, однако не устраняет дефицит доверия мирян: административная прозрачность возрастает прежде всего в бюрократическом секторе, тогда как символическая дистанция между монастырем и общиной может увеличиться.
-
2. Гибридная децентрализация. При сохранении единой доктринальной иерархии хозяйственные полномочия – управление земельными ресурсами, арендными договорами и распределением бюджетов социальных проектов – передаются провинциальным и окружным советам монахов. Модель снижает нагрузку на центральные органы, стимулирует локальную инициативу и ускоряет реакцию на региональные запросы. Уязвимость заключается в опасности неравномерного развития: экономически благополучные провинции модернизируют инфраструктуру, в то время как периферийные рискуют остаться без достаточных ресурсов.
-
3. Гражданская Сангха. Предусматривается институционализированное участие мирян в наблюдательных советах при храмах, их включенность в аудит активов и совместное формирование благотворительных фондов. Монахи получают пространство для контекстуальных интерпретаций Винаи, учитывающих цифровую экономику и гражданский активизм. Сценарий укрепляет социальный капитал буддизма и культуру взаимной отчетности, превращая храмовый комплекс в действенный центр общественной морали. Его слабое звено – необходимость тонкого баланса между традиционным авторитетом монашества и усиливающимся голосом мирян; без строго регламентированных процедур возможна конкуренция за влияние.
Важно подчеркнуть, что вероятность реализации каждого сценария напрямую зависит от того, смогут ли государственные институты увязать конституционную «охрану буддизма» с признанием автономии монастыря. То, сохранится ли жесткая вертикаль, раскроется ли потенциал децентрализации или Сангха вступит в фазу полноценного гражданского участия, определит способность реформаторов выстроить прозрачные и воспроизводимые правила, в рамках которых дисциплина, экономическая ответственность и открытый диалог будут функционировать не как конкурирующие, а как взаимодополняющие принципы.
Обсуждение . Королевская формула «нация – религия – монарх» обеспечила буддизму институциональные привилегии, однако же закрепила модель «полуавтономии»: Сангха пользуется материальной поддержкой, но принимает внешние правила игры. Такой компромисс работал в эпоху централизованной бюрократии и печатной проповеди. Он начинает давать сбой, когда монастырские сети становятся частью глобального медиапространства и экономических транзакций в реальном времени.
Кадровая геронтократия порождает эффект «отложенной синхронизации»: юридическая вертикаль обновляется медленнее, чем социальные запросы мирян. В результате молодые монахи с медиакомпетенциями ищут обходные каналы влияния, активизируя горизонтальные сети. Это увеличивает вероятность символических разногласий, но одновременно предоставляет ресурс для гибридных реформ, в которых монастырь остается духовным центром, а хозяйственная и образовательная деятельность делегируются смешанным советам.
Исторический материал показывает: каждый виток централизации был мотивирован не только заботой о дисциплине, но и желанием снизить политическую неопределенность. Однако длительная зависимость Сангхи от административного патронажа делает ее уязвимой: любая смена режима автоматически ставит под вопрос легитимность монастырского руководства. Надежный выход – укрепление процедурной прозрачности, основанной на четкой правосубъектности монашеских должностей и открытых финансовых стандартах.
Действующая система управления по принципу «Король утверждает – Совет управляет – Управление контролирует», исключающая участие мирян и приходских советов, перестает соответствовать актуальному общественному запросу на со-дхаммическое управление (co-dhammic governance), подразумевающее более активное включение прихожан в процессы монастырского администрирования. При этом голос мирян не должен приобретать характер политического давления, но может выступать в роли общественного аудита, позволяющего Сангхе поддерживать доверие общества без потери внутренней автономии.
Заключение . Заключительная панорама исследования подтверждает, что историческая динамика тайских монашеских реформ – от основания династии Чакри в 1782 г. до поправок к Закону о Сангхе 2017 г. – развивалась по спиральной модели. Каждый политический перелом открывает «окно» для свежей централизации, однако достигнутая упорядоченность неизбежно генерирует новые притяжения автономии. Так складывается ритм, в котором на смену волне дисциплинарного ужесточения приходит поиск гибких форм самоорганизации, а затем – очередной виток правового укрепления.
Кодификационный инструментарий остается главным рычагом государства: палийская легитимация соединяется с административной иерархией, обеспечивая управляемость, но фиксируя кадровую асимметрию и замедляя поколенческую ротацию. В третьем тысячелетии центр дебатов смещается в экономическую плоскость. Земельные аренды, бюджетные субсидии и поток цифровых пожертвований формируют новую «повестку прозрачности», в которой традиционный моральный авторитет, основанный на следовании Винае, дополняется общественным запросом на стандарты управления и публичную отчетность. Социологические опросы подтверждают, что для значительной части мирян именно открытость финансов и управленческих процедур усиливает доверие к монашескому руководству (Пиясило, Конгпан, 2020; Лимпрасерт, Таномкул, 2022).
Расширение цифрового пространства выводит Сангху из-под монополии традиционных медиа, создавая горизонтальные сети доверия и критики. При наличии четких процедур электронного учета, обратной связи и компетентностной аттестации цифровая публичность может трансформироваться из угрозы в ресурс обновления. Опыт истории подсказывает, что долговременная устойчивость достигается не максимальной централизацией, а гибким «пактом ответственности»: государство гарантирует базовую защиту буддизма, монашеское сообщество отвечает финансовой и дисциплинарной открытостью, социум поддерживает храм, видя в нем нравственный ориентир.
При этом позитивная траектория реформ, на наш взгляд, заключается в делегировании хозяйственных полномочий провинциальным и окружным советам при одновременном сохранении доктринальной унификации и введении объективно измеримых компетентностных требований к духовным должностям.
Подобная модель позволит:
-
1) снизить транзакционные издержки управления храмовым имуществом;
-
2) повысить прозрачность финансовых потоков;
-
3) обновить кадровый состав за счет механизмов аттестации, оставаясь в пределах канонического стандарта Винаи. Тем самым Сангха получит институциональные стимулы к самообновлению, не теряя внутренней автономии, а государство – более предсказуемого и ответственного партнера в сфере публичной морали. Исторически подтвержденная способность тайского монашества к адаптивной реконфигурации позволяет рассматривать данную модель как наиболее реалистичную основу для поддержания устойчивого равновесия между «нацией, религией и королем» в условиях XXI в.
Будущие исследования целесообразно сосредоточить на сравнительной диагностике моделей нейтрального патронажа в многоконфессиональных обществах, на эмпирическом мониторинге эффективности электронных реестров храмового имущества, а также на источниковедческом анализе высочайших королевских постановлений и их скрытого влияния на кадровую, дисциплинарную и имущественную архитектуру Сангхи. Систематическая публикация и критическая корреляция этих документов с практиками позволит точнее оценить механизмы инерции и инновации внутри монашеского института.