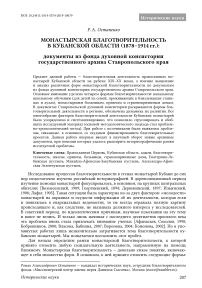Монастырская благотворительность в Кубанской области (1878-1914 гг.): документы из фонда духовной консистории Государственного архива Ставропольского края
Автор: Остапенко Роман Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (87), 2019 года.
Бесплатный доступ
Предмет данной работы - благотворительная деятельность православных монастырей Кубанской области на рубеже XIX-XX веков, а именно выявление и анализ различных форм монастырской благотворительности по документам из фонда духовной консистории государственного архива Ставропольского края. Основное внимание уделено четырем формам благотворительности: начальному школьному обучению (для детей из семей, проживающих в близлежащих станицах и аулах), монастырским больницам, приютам и странноприимным домам. В документах Ставропольской духовной консистории раскрываются формы благотворительной деятельности в регионе, обозначена динамика их развития. Все многообразие факторов благотворительной деятельности Кубанских монастырей было упорядочено и систематизировано, что позволило сгруппировать и обобщить исследуемый материал (основой методологического подхода стал проблемно-хронологический метод). При работе с источниками были выявлены проблемы, связанные, в основном, со скудным финансированием благотворительных проектов. Данная работа впервые вводит в научный оборот новые архивные документы, при помощи которых удалось расширить историографические рамки исследуемой проблемы.
Православная церковь, кубанская область, адыги, благотворительность, школы, приюты, больницы, странноприимные дома, екатерино-лебяжская пустынь, михайло-афонская-закубанская пустынь, александро-афонская зеленчукская пустынь
Короткий адрес: https://sciup.org/140246735
IDR: 140246735 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10079
Текст научной статьи Монастырская благотворительность в Кубанской области (1878-1914 гг.): документы из фонда духовной консистории Государственного архива Ставропольского края
Исследование процессов благотворительности в стенах монастырей Кубани до сих пор недостаточно изучено российской историографией. В дореволюционный период изучение помощи монастырей фокусировалось, в основном, на крупных центральных обителях [Вознесенский, 1909; Георгиевский, 1894; Дерюжинский, 1897; Ильинский, 1908; Лафаг, 1905]. Такая ситуация была характерна из-за двух факторов: «молодости» монастырей на окраинах и скудости информации об их деятельности, которая если и появлялась в епархиальных ведомостях, то не всегда отражала полную картину происходящего и, как следствие, не вызывала должного интереса у исследователей. В советский период, по идеологическим причинам, научные изыскания на эту тему и вовсе не велись. И только лишь начиная с последнего десятилетия прошлого века эта проблема вновь стала привлекать внимание ученых [Афанасьев, Соколов, 1998; Бобровников, 2000; Власова, Бабкина, 2007; Воронова, 2004; Кононова, 2002]. Но в упомянутых работах лишь незначительно затрагивается тема благотворительности кубанских монастырей. Мы попытаемся восполнить этот пробел.
Для начала определим рамки монастырской благотворительности, к которой принято относить любую созидательную деятельность, направленную на помощь ближнему. Монастырская благотворительность — довольно емкое понятие, включающее в себя множество форм. В основном, к ней принято относить следующие формы:
воспитание брошенных детей; помощь неполным семьям (приюты, богадельни); трудовая, материально-денежная помощь беднякам; содержание приютов для инвалидов войны; медицинская помощь и уход за больными и ранеными; создание образовательных учреждений (школ); курирование братств трезвости и помощь голодающим [Немирович-Данченко, 2000, 88–89].
В Кубанской области в исследуемый период функционировало восемь монастырей, и практически все обители активно занимались благотворительной деятельностью, которая сводилась к четырем основным формам: созданию больниц, начальных школ грамоты, приютов для детей и странноприимных домов.
Следует очертить хронологические рамки работы, которые определяет выявленный нами материал по данной теме в фонде Ставропольской духовной консистории. К 1878 г. относится первое упоминание об обучении девочек в обители Марии Магдалины и открытии школы при Михайло-Афонской пустыни, а 1914 г. был последним доступным годом по отчетам для всех монастырей.
Географические границы исследования включают Кубанскую область1, располагавшуюся в западной части Кавказской, а позднее и Ставропольской епархии.
К основной форме благотворительности можно отнести школьное начальное обучение, которое особо выделялось еще с середины XIX в. Об этом упоминается в принятом церковном документе «Положение о приходских попечительствах при православных церквах». Так, в первом его пункте декларировались цели и задачи, в числе которых значилась следующая: «о начальном обучении детей и благотворительности в рамках прихода» (Положение, 1910, 3). Этой «букве закона» следовали и монастыри области, шесть из которых имели у себя подобные школы.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы, постараемся дать краткую историческую справку об исследуемых монастырях.
Старейшей обителью Кубани являлась Екатерино-Лебяжская Свято-Николаевская мужская пустынь . Она обязана своим возникновением многочисленным просьбам казачества и распоряжению императрицы Екатерины II, которая своим указом повелела устроить обитель, предписав Святейшему Синоду сделать конкретные шаги для основания монастыря. Новую пустынь назвали в честь св. великомученицы Екатерины (небесной покровительницы императрицы) и в память о Межигорском Николаевском монастыре. Также определялось число монахов, которое должно было быть равно числу иноков Саровской пустыни, то есть 30 человек. На основании такого распоряжения в том же году войсковыми властями было указано место для пустыни на острове, омываемом водами Лебяжьего лимана. Началось активное строительство церкви с колокольней и келий. Как повествует монастырская летопись, для начала строительных работ казаки отчислили из своих доходов 30 тыс. руб., пожертвований, собранных для этой цели, было 10 тыс. руб. и 20 тыс. голландских червонцев. Этой суммы было вполне достаточно (Православная церковь, 2001, 333–334, 346).
И уже во второй половине XIX в. при Екатерино-Лебяжской пустыни имелась школа. В церковных ведомостях за 1903 г. упоминается, что в ней обучалось 14 мальчиков-сирот. Средства школа получала от пустыни в размере 560 руб. в год (ГАСК. Ф. 135. Оп. 61. Д. 1668. Л. 1–1 об.).
Первым женским монастырем Кубани являлась обитель Марии Магдалины. Она была основана по указу императора Николая I и по ходатайству наказного атамана Г. А. Рашпиля. Место для нее было отведено между станицами Роговской и Тима-шевской, где находился разрушенный конный завод. Первоначально монастырю отводилось 171 дес. земли (1 десятина = 1,09 гектара), в будущем земельный надел был увеличен до 500 десятин. В этом монастыре на 1878 г. проживало около 50 девочек, это были родственницы монахинь, а также девочки, привезенные родителями для воспитания и обучения [Словарь, 1997, 162–164, 261–262].
При посещении обители владыкой Агафодором (Преображенским) было принято решение устроить здесь школу. Школьное здание было построено так, что в нем размещались различные мастерские: иконописные, золотошвейные и ковровые. К началу ХХ в. Марие-Магдалинская пустынь из маленькой общежительной превратилась в красивый третьеклассный монастырь. В 14 корпусах проживало около 600 человек. При пустыни имелся кирпичный завод, 2 торговые лавки, одна ветряная мельница и 2 странноприимных дома [И. С., 1878, 50–59].
Создание «Кавказской лавры», как в дальнейшем будут неофициально именовать Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую мужскую пустынь , приходится на 1878 г. Идея ее создания принадлежала самому наместнику Кавказа — великому князю Михаилу Романову, а первым ее настоятелем был монах со Святой горы Афон о. Мартирий (Островых). По приезде на Кавказ им было подано прошение владыке Герману (Осецкому), в котором он просил дозволения основать на горном плато у г. Физиабго мужскую общежительную пустынь. И уже в 1885 г. император Александр III утвердил за Михайловой пустынью 1543 дес. земли. К этому времени число монашествующих в обители достигло 95 человек. В этом же году было завершено строительство главного храма монастыря — каменного собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, который мог вмещать до трех тысяч богомольцев. Его размеры впечатляли: длина — 57 м; ширина — 15,6 м; длина галерей — 59,7 м; ширина — 4,3 м. Внушительным было и число паломников — до 150 тыс. в год, а в дни Великого Поста — до 5 тыс. в день. Таким образом, по этим показателям Михайловская пустынь отставала лишь от Киевской и Троице-Сергиевой лавр [Леонов, 2007, 36–39, 69–82, 111].
При открытии обители планировалось сразу организовать при ней школу, что и было сделано, поскольку в Закубанье весьма ощущался недостаток в просветительских учреждениях. Монастырь должен был оказать существенную услугу краю, послужить основанием народной школы для христианского просвещения детей и жителей окрестных станиц. Школу посещали дети из близлежащих селений. Роль монастыря как просветительского центра в горной местности была огромна, к 1903 г. количество обучаемых в монастырской школе доходило до 18 человек [Иларионов, 1899, 503–504]. В свободное от послушания время мальчики обучались церковному пению. Попечителем школы был инок Вакулин. Но в том же 1903 г. школа грамотности за неимением учеников была закрыта. На территории монастыря также функционировали мастерские, обучавшие малолетних детей разным ремеслам: сапожному, столярному, слесарному, кузнечному, кожевенному (ГАСК. Ф. 135. Оп. 61. Д. 1689. Л. 2).
Женский Спасо-Преображенский монастырь располагался близ аула Сенты на левом берегу р. Теберды. Он вырос из скита во имя Покрова Пресвятой Богородицы на месте древнего средневекового храма [Беликов, 1997, 7]. Основательницей женской обители можно считать Евдокию Макарову, она была сестрой милосердия в русско-турецкой войне. В дальнейшем на этом месте была построена небольшая каменная церковь в честь Преображения Господня, а также звонница с колоколами (Отчет, 1902, 505).
С осени 1898 г. при монастыре существовала школа с церковно-приходским курсом, где обучались русской грамоте, помимо православных детей, и горцы из Сен-тинского аула. В 1901 г. в ней училось 15 русских детей и 8 черкесов-сентинцев в возрасте 17–18 лет. Кроме того, несколько взрослых черкесов приходили учиться грамоте по вечерам. Церковно-приходская школа была преобразована в 1907 г. в одноклассную. Заведующим и законоучителем в школе состоял священник Пётр Лотоцкий, а учительницей — Ольга Скорина. К 1914 г. школа продолжала функционировать (ГАСК. Ф. 135. Оп. 65. Д. 1870. Л. 77 об.; ГАСК. Оп. 66. Д. 672. Л. 1; ГАСК. Оп. 72. Д. 1261. Л. 112 об.).
В 1899 г. близ ст. Динской была основана женская монашеская община во имя Покрова Пресвятой Богородицы, преобразованная в 1904 г. в монастырь. Она обязана своим появлением вдове войскового старшины Анне Алексеевне Радченковой, которая пожертвовала земельный участок для ее устройства. Большую помощь в создании обители оказали монахини Ставропольского Иоанно-Марьинского монастыря. В 1897 г. здесь проживали 64 монахини и послушницы. К 1903 г. кроме молитвенного дома у общины имелось пять корпусов для помещения сестер, странноприимный дом, здание школы для окрестных детей, дом для священников с надворными постройками, хозяйственный двор, строился большой кирпичный храм, заканчивалось строительство монастырской гостиницы. В 1914 г. в монастыре насчитывалось уже 114 монахинь.
При монастыре действовала школа смешанного типа. Первый набор учеников в нее состоялся всего через год после открытия обители. Первоначально в ней обучалось 12 мальчиков и 8 девочек. Учительницей была дочь священника, окончившая курсы в Екатеринодарском епархиальном училище, — Екатерина Васильевна Барыкин-ская. Закон Божий преподавал священник Леонид Петрович Вишневский. Церковная школа получала от монастыря 306 руб. в год. В 1914 г. в число учеников увеличилось почти в два раза и составляло 16 мальчиков и 11 девочек, но средств на содержание школы, из-за бедности, монастырь выделял почти в два раза меньше — 165 руб. 50 коп. в год [Шафрановая, Пусева, 2017, 297].
В Армавире находилось Романовское подворье Кавказского Николаевского мужского монастыря , основанного в 1897 г. На его территории сразу же была открыта школа, которая помещалась на втором этаже братского корпуса. Размеры школы были очень маленькие, всего 7 на 6 метров. Заведующим был иеромонах Мефодий, в бытность которого в школе насчитывалось 70 учеников, при его преемнике архим. Иеремии — 62, в 1904 г. — всего-навсего 23 ученика. Обучение обычно начиналось в начале октября, а в 1904 г. началось только 15 декабря. Финансовая ситуация в школе была сложная, требовалось расходов не 350 руб., как выделялось монастырем, а от 1400 до 1000 руб. в год. Учитель Петр Богацкий преподавал за 60 руб. в год, но реально получал еще меньше, так как монастырь очень нуждался в средствах. В материальном отношении ситуация была ничуть не лучше — негодные уродливые парты, доску заменили дверцами шкафа, не было библиотеки для внеклассного чтения и методических руководств. В школе практически отсутствовали книги (ГАСК. Ф. 135. Оп. 58. Д. 588. Л. 1–3 об., 10 об., 11 об., 18).
Итак, школы у себя имели шесть из восьми монастырей. Финансовый вопрос во всех стоял весьма остро. В среднем, на школьное обучение монастыри Кубани ежегодно выделяли от 165 до 560 руб., что было в четыре раза меньше запрашиваемых дирекциями школ сумм. Но даже при таком малом финансировании, сильно сокращая свой бюджет, отказываясь от новых учебников, мебели и урезая зарплаты учителям, школы все же продолжали обучение. Одним из болезненных вопросов, губивших школьное монастырское образование, можно назвать появившееся с течением времени нежелание местного населения отправлять детей на обучение в монастырские школы. В 1903 г. по этой причине пришлось закрыть школу при Михайло-Афонской Закубанской пустыни.
Кроме школьного просвещения монастыри активно участвовали и в иных формах благотворительности, в строительстве больниц и приютов . Во многих обителях имелись странноприимные дома для паломников.
Два монастыря Кубани имели у себя больницы. Одна из них находилась при Алек-сандро-Афонской Зеленчукской мужской пустыни, которая была основана в 1887 г. на месте трех древнехристианских храмов. Иеромонах Серафим, после обращения в Св. Синод, получил благословение учредить монастырь на р. Большой Зеленчук. На устройство пустыни братией было вложено 40 тыс. руб. Под новоустроенный монастырь выделили 522 дес. земли. К 1889 г. монасырь имел 90 иноков и послушников [Древне-христианские храмы, 1894, 21–22, 33–36].
В 1904 г. три жительницы Севастополя — Елена Евстафьевна Валюхова, Евдокия Сергеевна Степанова и Акилина Михайловна Олеменнова, посетив обитель, просили церковное начальство разрешить им устроить в х. Калиновском, на месте подворья монастыря, женскую общину с больницей и амбулаторией «для искоренения в народе вреда от знахарей и знахарок, организовать при больнице курсы сестер милосердия для женщин, открыть так же, для сирот и детей местных жителей, школу-приют с рукодельной» (ГАСК. Ф. 135. Оп. 62. Д. 830. Л. 4–5).
Также больница функционировала и в Михайло-Афонской Закубанской пустыни, она была рассчитана на десять кроватей для престарелых воинов. А на территории Спасо-Преображенского и Покровско-Богородичного монастырей имелись странноприимные дома для размещения паломников. Размеры странноприимного дома в первом из монастырей были 21 на 10,5 м (ГАСК. Ф. 135. Оп. 58. Д. 588. Л. 24, 76, 92).
В 1898 г. возник вопрос об организации в Кубанской области исправительных детских приютов . По предложению преосвященного Агафодора (Преображенского), епископа Ставропольского и Екатеринодарского, их решили создавать при монастырях, что отвечало лучшим традициям монастырской жизни. Было принято решение об открытии приюта и сиротского дома при Лебяжской и Мариинской обителях. Помещение, отведенное для приюта на 25 девочек, занимало прекрасный недавно отстроенный дом в центральной части монастыря [Крыжановский, 1902, 1036–1038].
Резюмируя сведения о монастырской благотворительности в Кубанской области почти за сорок лет, с 1878 по 1914 гг., следует отметить, что семь из восьми монастырей активно ею занимались. Нам не удалось найти упоминаний о наличии школы, больницы, приюта или о другой благотворительной деятельности только лишь в одной из обителей — Казанском мужском монастыре , который был преобразован в 1910 г. из подворья архиерейского дома в ст. Васюринской. В том, что он не успел еще как следует начать функционировать, возможно, и кроется причина отсутствия благотворительной деятельности. Развитие этого монастыря, как и многих других обителей России, было трагически прервано в годы воинствующего атеизма.
Но были и внутренние трудности, которые можно разделить на две группы. Так, первая проблема касалась функционирования школ грамоты и сводилась к скудному финансированию, что особо заметно на примере Армавирского подворья и женской монашеской общины в ст. Динской. Второй проблемой стала невостребованность монастырской системы образования. Причины этого могут лежать в нехватке времени у крестьян и казачества для обучения в весенне-осенний период полевых работ и в конкуренции, которую составили монастырским школам государственные школы народного просвещения, как раз в этот период начавшие появляться в регионе. Так, например, в 1903 г. была закрыта школа при Михайло-Афонской Закубанской пустыни. Из положительных факторов отметим, что для многих жителей близлежащих станиц и аулов обращение в монастырские больницы зачастую было единственной доступной медицинской помощью, а обучение в монастырских школах — единственной возможностью получить хоть какое-то начальное образование.
Список литературы Монастырская благотворительность в Кубанской области (1878-1914 гг.): документы из фонда духовной консистории Государственного архива Ставропольского края
- ГАСК. Ф. 135: Ставропольская духовная консистория. Оп. 58. Д. 588: О построении двухэтажного дома с церковью для Спасо-Преображенского монастыря, при древнем храме Сентинском Кубанской области.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 61. Д. 1668: Ведомость о церковно-приходских школах и школах грамоты Екатерино-Лебяжской Николаевской общежительной пустыни в 1903 г.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 61. Д. 1689: Cведения о количестве церквей и зданий Михайло-афонской мужской пустыни за 1903 г. Исторические науки 211
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 62. Д. 830: О подворье х. Калиновского Зеленчукской пустыни.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 62. Д. 1429: Кавказский миссионерский монастырь во имя св. Николая.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 65. Д. 1870: Ведомости о церквях, причтах и духовенстве Кубанской области, Ставропольской епархии за 1907 г.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 66. Д. 672: Клировые церковные ведомости по Кубанской области Баталпашинского отдела XI благочинного округа за 1908 г.
- ГАСК. Ф. 135. Оп. 72. Д. 1261: Клировые ведомости и послужные списки церковно-служителей и церковных старост и сведения о сиротах подведомственным церквям в XI бла- гочинном округе Кубанской области, 1914 г.
- Отчет о деятельности Ставропольского Андреевско-Владимирского братства за 1901 г. Противомусульманская миссия в Трухменских степях Ставропольской губернии // Ставропольские епархиальные ведомости 1902. № 9. С. 505.
- Положение о приходских попечительствах при православных церквах [(высочайше утверждено 2 августа 1864 г.)]. Томск: Тип. Дома трудолюбия, 1910.
- Православная церковь на Кубани (конец XVIII - начало XX вв.): Сб. документов. Краснодар: Упр. по делам архивов Краснодарского края, 2001. литература
- Афанасьев В. Г., Соколов А. Р. Благотворительность в России. Историографические аспекты проблемы. СПб.: Нестор, 1998.
- Беликов Г. Спасо-Преображенский женский монастырь // Ставропольские губернские ведомости. 1997. №. 177. С. 7.
- Бобровников В. Г. Благотворительность и призрение в России. Волгоград: ВолгГТУ, 2000.
- Власова А. В., Бабкина Л. Ф. Очерки церковной благотворительности: в 2 ч. Челябинск: Уральский социально-экономический ин-т Акад. труда и социальных отношений, 2007.
- Вознесенский Н. Ф. Христианская благотворительность в условиях нашего времени. Харьков: Тип. Губ. правл., 1909.
- Воронова Е. А. Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви в России: история и современность. СПб.: СПбГУ, 2004.
- Георгиевский П. И. Призрение бедных и благотворительность. СПб.: Тип. Мор. м-ва, 1894.
- Дерюжинский В. Ф. Заметки об общественном призрении. М.: Печатня С. П. Яковлева, 1897.
- Древне-христианские храмы и Св. Александро-Афонский Зеленчукский монастырь в Зеленчукском ущелье Кавказского хребта, Кубанской области, Баталпашинского отдела. М.: Изд. Св. Александро-Афонской Зеленчукской пустыни, 1894.
- И. С. Голос с берегов Лабы // Кавказские епархиальные ведомости. 1878. № 2. С. 50-59.
- Иларионов, диак. Паломничество учеников церковно-приходской школы Александро-Невской церкви г. Майкопа // Ставропольские епархиальные ведомости. 1899. № 11. С. 503-504.
- Ильинский В. Благотворительность в России (история и настоящее положение). СПб.: Имп. Человеколюбив. об-во, 1908.
- Кононова Т. Б. Особенности развития благотворительности в России. М.: МГСУ, 2002.
- Крыжановский П. Н. Исторический очерк женской во имя Св. Марии Магдалины иноческой за 50 лет ее существования пустыни - с 21 сентября 1849 по 21 сентября 1899 гг. // Ставропольские епархиальные ведомости. 1902. № 17. С. 1036-1038.
- Лафаг П. Благотворительность. Одесса: Е. М. Алексеева, 1905.
- Прокопий (Леонов), мон. История Свято-Михайлово-Афонской Закубанской общежительной пустыни. Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2007.
- Немирович-Данченко В. И. Наши монастыри. М.: Лодья, 2000.
- Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г. Краснодар: Эдви, 1997.
- Шафрановая О. И., Пусева Н. В. Благотворительная и просветительская деятельность женских православных монастырей Северного Кавказа в XIX в. // Духовно-нравственный опыт народа и православная педагогическая культура как основа воспитательного идеала. Владикавказ, 2017. С. 294-300.