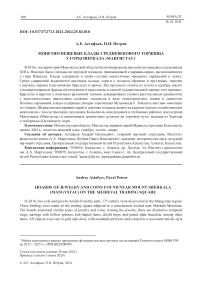Монетно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
Автор: Астафьев А.Е., Петров П.Н.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 18, 2024 года.
Бесплатный доступ
В 2016 г. на территории Мангистауской области были обнаружены два монетно-вещевых клада начала XIII в. Находки были сделаны на торговой площади, примыкающей к караван-сараю, расположенному у горы Шеркала. Клады содержали в своём составе аналогичные предметы украшений и монет. Среди украшений выделяются височные кольца, серьги с полыми сферами и прутковые, перстни с щитком, парные пластинчатые браслеты и прочее. Все предметы отлиты из золота и серебра, имеют стандартизованные формы изготовления и выполнены в единой художественной манере того времени. Браслеты и перстни с помощью различной техники декорированы схожим растительным орнаментом с дополнительным нанесением сложных элементов в виде геометрических знаков и символов. Помимо украшений, клады содержали динары хорезмшаха Мухаммада б. Текеша и местные имитации его чекана. Шеркалинские караван-сарай и торговая площадь являются единым торгово-хозяйственным комплексом с соседствующим городищем Кызылкала, находящимся в глубинных районах полуострова Мангышлак (Мангистау) и являющимся транзитным пунктом на торговом пути, ведшим из Хорезма к побережью Каспийского моря.
Мангистауская область, мангистау, караван-сарай шеркала, городище кызылкала, начало xiii в, монетно-вещевой клад, серебро, золото, динар
Короткий адрес: https://sciup.org/14131541
IDR: 14131541 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.25.83.010
Текст научной статьи Монетно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
№ 18. 2024
обнаруженного у горы Шеркала Волго-Уральской археологической экспедицией под руководством Л.Л. Галкина (МОИКМ КП 4160/1,2; Галкин 1990: 101). В отчёте приводимая исследователем информация о поселении крайне скудна. По этой причине описание шеркалинского «поселения» мы приводим в своей интерпретации (Астафьев 2010: 42—43).
Археол огический памятник располагается между двумя природными грядами под северной стеной горы Шеркала (рис. 3). Между грядами с напольной стороны имеется грунтово-каменный вал пр отяженностью более 180 м, шириной 5 м и высотой 1,5—1,7 м. Вал в плане слегка изогнут в сторону «поля» и имеет два разрыва по сухим руслам, образованным сезонными водотоками. На местах рассечения вала просматриваются элементы каменной двухрядной кладки бутового типа шириной 2,5 м, сложенной небольшими песчаниковистыми конкрециями. По гребням просматривается фундамент сильно разрушенной аналогичн ой каменной стены шириной 1,2 м. Таким образом, отгороженная площадь памятника составляет 4 га.
Основная площадь укрепления свободна от построек и практически не содержит подъёмного материала и каких-либо проявлений культурных отложений. Визуально реальный участок обживания небольшой: 80 × 50 м. Он определяется по остаткам каменных фундаментов построек, скоплению фрагментов керамики и кирпича-плинфы, а также норным выбросам обломков костей, со средоточенным в юго-восточном секторе поселения на склоне гряды с примыканием к стене горы. Здесь имеется лаз на гору, где находилась обитаемая в древности площадка около 1 га (рис. 5). На площадке встречаются обломки керамики домонгольского периода, обожжённого кирпича-плинфы, стеклянные бусы. Ранее здесь найден мелкий обломок золотой монеты с арабографической легендой. В стенах русловых пр омоин этой площадки имеются небольшие ис кус ственные ниши жилого предназначения. В одной из ниш сохранился прочерченный в мягком песчанике рисунок каравана верблюдов (рис. 6).
Осмотр прилегающей к укреплению территории позволил выявить обширную площ адь (более 30 га), где нечасто встречаются фрагменты станковых красноглиняных, сероглиняных, поливных, реже лепных сосудов (рис. 8), а также обломков красного кирпича-плинфы.
В 500—600 м севернее укреплённого поселения рельеф имеет вытянутое котловидное понижение, некогда подтопляемое водами родниковой речушки Акмыш. Это понижение перегорожено большой дамбой протяженностью более 400 м при ширине основания 30 м и высоте 5 м, с помощью которой формировался водоём с водным зеркалом порядка 150 га (рис. 4). В настоящее время плотина прорезана мощным водяным потоком ниже своего основания, что позволяет видеть её структуру (рис. 7). Профиль насыпи имеет явную асимметрию с выполаживанием одного склона в сторону водохранилища и крутизну противоположного. В основании плотины прослеживаются два или три пахсовых горизонта, перемежающихся супесчаными подсыпками. Пахсовым чехлом накрыт пологий склон плотины. Поверх кромки вала имеется щебнистая насыпка толщиной до 0,8 м, возникшая, со слов информаторов, при реконструкции сооружения в 30—40-х годах прошлого столетия. Встречаемость керамики и обломков кирпича-плинфы с южной стороны вдоль древнего берега водохранилища, хорошо отбиваемого по растительности, убедительно свидетельствует о древнем возрасте данного ирригационного сооружения.
План укреплённого поселения Шеркала крайне далёк от принципов азиатс кой городской структурности (Беленицкий и др. 1973) и привязан к существующему ландшафту. По времени керамических обломков и по принципу расположения внутренних построек это «пос еление» более сопоставимо с планами двух караван-сараев Мангистауской области, расположенных в ме стно сти Агашты восточного хребта Каратауского нагорья и на плато Устюрт у колодцев Уали, которые существовали, судя по находкам керамики и прилегающим могильникам в XII — XIV вв. (МГИКЗ. КП-1147. Л. 56—60). Эти сооружения в плане имели овальную планировку, далёкую от классических построек средневекового зодчества (Зиливинская 2018: 24—31).
№ 18. 2024
Мон етно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
Наиболее сохранившим ся следует считать караван-сарай Агашты. Он имеет размеры 100 × 80 м. Его стены дошли до нас в виде высоких грунтовых валов шириной до 20 м при высоте 1,5— 2,5 м с прослеживающимися в «теле» конструкциями в виде двухрядных кладок из природного камня. Внутреннее дворовое пространство свободно от построек. В северо-западном секторе внутри сооружения имеется сильно задернованный каменный развал внутренней пристройки приблизительно 25 × 25 м. Здесь, вероятно, имеется проход коридорного типа по касательной. По со седству с караван-сараем Агашты находится большое искусственное водохранилище, питаемое горным родником и сформированное мощной грунтовой плотиной протяжённостью более 25 0 м с формированием водоёма площадью до 80 га. Караван-сарай Уали соседствует с целой системой старых колодцев. Логика устройства караван-сараев в пустынных условиях должна подразумевать до статочное водообе спечение для содержания значительного поголовья вьючных животных (верблюдов и лошадей). Таким образом, формируется некая модель признаков мангистауских караван-сараев домонгольского времени: огороженн ая площадь-двор, обустроенная небольшими внутренними помещениями, и значительный источник водопоя. Этими признаками обладает Шеркалинское «поселение», которое, не смотря на свое своеобразие, мы склонны считать караван-сараем.
Важной географической особенностью караван-сарая у горы Шеркала является соседство с городищем Кызылкала конца X—нач. XIII в. (Калменов 2007; 2012; Калменов, Бижанова 2019), скорее всего, известного по средневековым документальным источникам как город Мангышлак (Астафьев 2010: 43—47). Этот город располагался в 2 км от горы Шеркала в экологически благоприятном районе внутреннего Мангистау на торговом пути (рис. 1) с выходом в районы бухты Тупкараган к городищу Коргантас (Астафьев 2010: 51—52) и Караганской (Мангышлакской, Сарташской) пристани с береговой торговой площадью (Астафьев, Петров 2017: 212). Городище Кызылкала следует рассматривать как основополагающий маркер узловых точек караванных путей мангышлакского направления, связывающих Хорезм и важный торговый центр Саксин (Самосдельское городище) в нижнем течении р. Волги (Васильев 2015: 243—245; Марыксин и др. 2022: 10 1—103). Фрагменты керамики и обломки красного кирпича, найденные на Шеркалинском караван-сарае, полностью идентичны материалам городища Кызылкала (МГИКЗ. КП-1054; МГИКЗ. КП-1147; Марыксин и др. 2022: 99—103).
Предварительный осмотр местно сти севернее караван-сарая позволил локализовать четыре основных участка встречаемости фрагментов средневековой керамики и обломков кирпичей-плинфы (рис. 4), общей площадью около 30 га. Клады были найдены на самом большом центральном участке, непосредственно примыкающем к крепостной стене караван-сарая. Помимо керамики здесь отмечается поверхностная концентрация различных мелких металлических изделий, в том числе элементов ременной гарнитуры и украшений, бронзовые и железные наконечники стрел, гранулы меди, мелкие железные гвозди, отломки и обрезки листовой меди и т. п. Обнажений культурного слоя не обнаружено.
-
2.2 . Краткое описание кладов
I -Шеркалинский монетно-вещевой клад 2016 г.
В набор самого представительного клада входило более 34-х золотых и серебряных ювелирных изделий (рис. 9: 1 ). Вероятно, подобных находок было больше, т.к. со слов М. Ербозова, часть серебряных предметов была утеряна. К нумизматическим находкам относится 12 целых золотых динаров и серия из более 40 крупных и мелких их обломков (шекасте) (рис. 16). Следует заметить, что основн ая часть обломков найдена в небольшом отвале на глубине 2—7 см от современной дневной поверхности. Подобный разброс шекасте, вероятно, можно объяснить землеройной деятельностью мелких грызунов либо суматохой, в которой клад был сокрыт.
№ 18. 2024
Состав клада:
-
1. Четыре парных золотых пластинчатых браслета (рис. 11). Они были изготовлены из тонких металлических пластин. Первая пара изделий имела ширину приблизительно 30 мм с продольной узкой окантовкой, в одном случ ае — треугольного сечения (рис. 11: 3 ). Концы пластины свёрнуты в узкий приплюснутый валик. По центру пластины у этих валиков пробиты небольшие отверстия для сшивания. Бр аслеты без декора. Вторая пара браслетов имела ширину 34 мм с продольной узкой окантовко й в виде валика (рис. 11: 1 ). По центру концов пластин пробиты отверстия для сшивания. Поверхности пластин декорированы точечным тиснением. Орнаментальные мотивы созданы комбинацией геометрических фигур — кругов, вписанных друг в друга треугольников и крестовидных фигур (рис. 11: 2 ).
-
2. Два серебряных трубчатых браслета высокого сегментовидного сечения с зауженными не сомкнутыми концами, которые декорированы сканым зооморфным узором (рис. 12: 4 ). На концах имеются небольшие сферические утолщения. Приблизительные габаритные размеры 73 × 55 мм. Изделия имеют следы сильной потёртости.
-
3. Одиночный серебряный браслет по типу и форме аналогичный вышеописанным, но без декора и меньшего размера (рис. 12: 3 ). Концы оформлены небольшими двухваликовыми утолщениями. Приблизительные габаритные размеры 53 × 40 мм.
-
4. Одиночный серебряный браслет с зауженными концами, свитый в плотную спираль из двух тонких полос металла (рис. 12: 1 ). Приблизительные габаритные размеры 68 × 60 мм.
-
5. Одиночный серебряный бр аслет, витой из проволоки (рис. 12: 2 ). Изображения не дают полного представления о конструкции изделия. В основу положены два полых жгута, свитых в плотную спираль из двух проволок. Жгуты спаяны в двух местах, а на концах оплетены двухрядной сканью. Выше концо в между жгутами впаяны ленты из двух рядов скани с простой проволокой между ними. Внешняя плоскость концо в браслета декорирована с каным узором в виде симметричных завитков. Приблизительные габаритные размеры 67 × 58 мм. Изделие имеет следы сильной потёртости.
-
6. Серия из четыр ёх серебряных перстней щиткового типа (рис. 10: 2, 3, 11, 12 ). Щитки круглые или квадратные, объёмно-пустотелые либо цельнолитые. Расширения дужек на месте сочленения имеют штам пованную накладную пластинку с растительным мотивом. Подобные пластинки, но меньшей величины, припаяны зеркально к торцам щитков. Поверхности щитков декорированы геометрическим гравированным орнаментом в виде окружности с небрежной прямосетчатой насечкой, окружённой имитационным письмом типа «насх» (рис. 13: 10), пересекающихся полос, формирующих ше стиконечную звезду в окружении многоугольников (рис. 10: 3 ), вписанного ромба (рис. 10: 11 ) и вписанной цветочной во сь милепестков ой розетки (рис. 10: 12 ). Использовано позитивное золочение и негативное чернение.
-
7. Золотой перстень с четырёхугольным глубоким кастом (рис. 10: 6). Вставка утрачена. Чуть наклонные стенки каста и расширение дужки на месте сочленения имеют штампованный накладной декор с растительным мотивом. Углы каста оформлены трёхчетвертными колонкообразными выступами.
-
8. Серебряный перстень с четырехугольным глубоким кастом (рис. 10: 5). Вставка утрачена. Чуть наклонные стенки каста имеют грубую геометрическую насечку. Расширение дужки на месте сочленения декорированы штампованными накладками с растительным мотивом. На стенки каста напаяны выступающие «лапки» (накладные крапаны) для закрепления вставки.
-
9. Серебряный перстень с четырехугольным глубоким кастом, аналогичный вышеописанному (рис. 10: 4 ). В качестве вставки использован обработанный янтарь (сохранность вставки удовлетворительная).
-
10. Серебряный перстень с четырёхугольным глубоким кастом (рис. 10: 1 ). Вставка — гранёный аметист. Чуть наклонные стенки каста и расширение шинки на месте сочленения имеют штампованный накладной декор с растительным мотивом. Углы каста оформлены
№ 18. 2024
-
11. Серия из четырёх серебряных щитковосерединных перстней с шестиугольным плоским щитком (рис. 10: 7—10). Дужки тонкие. Щитки двух перстней декорированы гравированным геометрическим орнаментом. В одном случае это вписанные друг в друга полукружья, расположенные по каждому краю щитка (рис. 10: 8), в другом — квадратный ромб, разделённый крестом ещё на четыре подобных ромба. На одном щитке имеется арабографическая надпись (рис. 10: 9 ), в прочтении В.С. Кулешова, переводимая как «Громкая слава» или «Звенящая слава»; эпиграфика XII века: простой куфи, перемешанный с насхом1.
-
12. Два золотых прутковых кольца (височные) с нес омкнутыми сильно разведёнными концами диаметром более 40 мм при диаметре прутка около 3 мм (рис. 14: 1 ).
-
13. Шесть больших золотых серёг в виде прутковых колец с пустотелыми напускными бусинами-овалоидами (рис. 14: 1 ). В четырех случаях концы колец сомкнуты внахлёст с оплёткой проволокой. Овалоиды спаяны из двух полусфер. В четырёх случаях швы спайки декорированы тремя витками сканой проволоки. Диаметр колец в пределах 45 мм, длина овалоидов 14—16 мм при диаметре 11—13 мм.
-
14. Две золотые серьги небольшого размера, подобные вышеописанным, с тем отличием, что напускные бусины более приближены к сферам (рис. 14: 1 ). Стыки концов скрыты под подвижными пустотелыми бусинами-сферами. Сферы гладкие без декора. Диаметр колец в пределах 25 мм, диаметр сфер 9-10 мм.
-
15. Четыре серебряные рамчатые пряжки (рис. 13: 1—3, 8). Рамки грубого литья, чуть трапециевидные, треугольного сечения. Язычки подвижные прямые с загнутой петлёй. На месте крепления петли рамка заужена. Габаритные размеры рамок 17 × 14 мм.
-
16. Четыре серебряные пуговицы полой оваловидной или сферической формы (рис. 13: 4—7). Они спаяны из двух вытянутых полусфер и имеют небольшое кольцевидное ушко. Диаметр полусфер 11 — 12 мм.
-
17. Звено из двух уплощённых колечек из металла с тёмной патиной (рис. 13: 9 ). Одно колечко цельное, другое — с клёпанными внахлёст концами. Диаметр колец 13—14 мм.
-
18. Золотые динары 12 шт. + 40 обломков. На младших читаемых экземплярах и обломках указано имя (и/или титул) хорезмшаха Ануштегинида Мухаммада б. Текеша (596—617 гг. х./ 1200—1220 гг.). Приведено фото 14 экземпляров (фототабл. I ). Среди них есть динар № I /2 династии Гуридов Гур (Мухаммада б. Сама — 569—599 гг. х. / 1173—1203 гг.) и динары, очень похожие результаты «лихого промысла» с именем хорезмшаха Мухаммада № I /4—14 (надписи выполнены очень грубо и зеркально). Динар № I /3 — Динар № I /1 Мухаммада б. Текеша {монетный двор утрачен [Хваризм], год выпуска утрачен (аналогичен Z /124868)}.
Мон етно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
трёхчетвертными колонкообразными выступами с «лапки» (накладные крапаны) для закрепления вставки.
II -Шеркалинский монетно-вещевой клад 2016 г.
Состоит из 21 предмета золотых и серебряных ювелирных украшений, четырёх целых золотых монет, более 50-ти крупных и м елких обломков (шекасте) подобных монет (рис. 9: 2 , фототабл. II ). Практически вся фракция происходит из отвала небольшой ямы кладоискателя глубиной до 25 см.
-
1. Три золотых прутковых кольца (височные) с несомкнутыми концами диаметром 44— 46 мм при диаметре прутка около 3 мм (рис. 14: 2 ).
-
2. Четыре золотые серьги небольшого размера в виде прутковых колец с несомкнутыми концами, на один из которых надеты небольшие полые бусины-сферы (рис. 14: 4—6). В одном случае надет овалоид, у которого стыковочный шов перекрыт двумя рядами сканой проволоки. Пруток кольца у основания этого овалоида имеет подмотку сканой проволокой. Свободные концы колец серёг слегка заострены. Диаметр колец 20—27 мм, ди аметр сфер 9—11 мм.
-
3. Две большие серебряные серьги в виде прутковых колец с пустотелыми напускными бусинами-овалоидами (рис. 14: 3 ). Концы колец с омкнуты и перекрыты о бмоткой сканой проволоки. Овалоиды спаяны из двух полусфер. Швы спайки декорированы четырьмя витками сканой проволоки. Диаметр колец в пределах 45—47 мм, длина овалоидов 16 мм, диаметр 13 мм.
-
4. Небольшая серебряная серьга в виде пруткового кольца, на которое надета небольшая полая бусина-сфера (рис. 14: 7). Диаметр кольца 27 мм, диаметр сферы 11 мм.
-
5. 12 серебряных щитковосерединных перстней (рис. 15: 1 ), среди которых восемь имеют округлые щитки (рис. 15 : 3—5), два — ше стиугольные и два — квадратные (рис. 15: 2 ). Дужки тонкие. Щитки трёх перстней декорированы гравированным геометрическим орнаментом: прямой крест с конусовидным расширением концов, вписанный в шестиугольник, квадратный ромб, разделённый крестом ещё на четыре подобных ромба и внутренне-фестончатые обрамления шестиугольника.
-
6. Золотые динары 4 шт. и обломки до 50 экз. На читаемых младших экземплярах и обломках указано имя хорезмшаха Ануштегинида — Мухаммада б. Текеша (596— 617 гг. х./1200—1220 гг.). Приведено фото 6 экз. + нескольких обрезков (фототабл. II ). Динар № II /1 Мухаммада б. Текеша бит на монетном дворе Хваризм, но год выпуска утрачен [608 г.х./1211-1212 г.] (аналогичен Z /329641). № II /2 — динар с именем султана Текеша хорезмшаха (589—596 гг.х. / 1193—1200 гг.). № II /3-4 — динары, очень похожие результаты «лихого промысла» с именем хорезмшаха Мухаммада (как в кладе I ). То есть, младшая монета относится уже ко 2-му де сятилетию XIII века.
№ 18. 2024
-
3 Обсуждение результатов исследования
Набор предметов двух кладов, обнаруженных у горы Шеркала, аналогичен по содержанию и условиям сокрытия. Они найдены на одном участке пологого склона на расстоянии 43 м друг от друга на небольшой глубине залегания. Третий монетный клад найден в аналогичных условиях на этом же участке.
Бо́ льшей части золотых и серебряных укр ашений свойственны общие декоративнотехнологические признаки:
-
1. Стандартизированность формы, дизайна и конструкции больших и малых серёг, выполненных как в золоте, так и в серебре.
-
2. Единая художественная манера и техника изготовления декоративных штампованных накладок с растительными мотивами на перстнях.
-
3. Аналогичный ромбовидный декор на щитках перстней из разных кладов.
-
4. Наличие в обоих кладах перстней с шестигранными щитками.
-
5. Серийность типов различных ювелирных изделий.
-
6. Все серебряные перстни имеют следы потёртости ввиду долгого ношения. Согласно размерности дужек изделий можно вычленить мужские, женские и детские.
Таким образом, определяются две составляющие кладов — носимые мужские, женские и детские украшения из золота и серебра, а также золотые монеты и шекасте, явно являющиеся свидетельством осуществления торговых сделок. Вероятнее всего, основной набор украшений был произведён вблизи лежащих ювелирных мастерских, которые находились на территории городища Кызылкала. Это мнение хорошо соотносится с находкой зде сь обломка литейной формы для производства различной мелкой пластики, найденной при проведении археологиче ских раскопок в 2009 г. (МГИКЗ. КП-1054. Рис. 19). Налаженный выпуск простых и стандартизированных по дизайну ювелирных изделий, вероятно, отвечал требованиям кочевнической моды Каспий-Аральского региона (Ягодин 1991: 132, рис. 47: 2 ). Поиск культурных аналогий подобных изделий пока не входит в рамки данного исследования.
№ 18. 2024
Мон етно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
Вопрос времени тезаврации кладов определяется их хронологи че ским составом. Золотые динары XII — XIII вв. чеканились по техническому заданию под контроль по системе эль-марко, т.е. отсутствовало требование к одинаково сти веса выпускаемых монет, а контроль осуществлялся по количеству штук в определённой крупной их навеске. Поскольку серебряная монета практически не чеканилась из-за дороговизны добычи серебряной руды, золотые монеты ломались и обрезались на рынках в ходе совер шения сделок по купле-продаже товаров. И такие обломки разных размеров мы наблюдаем и в наших двух кладах. Плохое качество чеканки и большое количест во о бломан ных золотых динаров обуславливают отсутствие выпускных сведений на подавляющем большинстве золотых монет рассматриваемого периода. Ни на одной из монет I и II Шеркалинских кладов год чеканки не сохранился. В то же время, среди монет нет ни одного экземпляра (в т.ч. среди большого числа обломков), битого Чингизидами! То есть тезаврация состоялась до момента вхождения полуострова Мынгистау (Мангышлак) в состав империи Чингисхана. С другой стороны, один из хор езмийских динаров II клада (№ 1) с именем Мухаммада б. Текеша типологически датируется 608/1211—1212 г., т.е. уже вторым де сятилетием XIII века. Строго говоря, время тезаврации клада должно быть записано terminus post quem (tpq) 608 г. х./1211—1212 г. Но в составе кладов присутствует достаточно большое количество динаров с очень грубо зеркально исполненными надписями. Что это — фальшивые динары того времени, имитационные местные выпуски лихолетья, связанного с экспансией монголов? Наверное, в настоящее время однозначного ответа мы не сможет получить на поставленный вопрос и условно будем называть эту продукцию продукцией «лихого промысла». Однако с учётом возможных предположений устанавливается хронологическое ограничение тезаврации кладов интервалом времени 608~618/1211~1221 гг., т.е. десятилетием до первых годов монгольского завоевания включительно.
О распространённости динаров «лихого промысла» можно сказать, что обращение этих монет носило сугубо локальный характер. Находок такой продукции не известно нам ни в исторической области Хорезм, ни в Приаральских или Присырдарьинских регионах. Лишь единичные экземпляры встречены в дельте р. Волги на археологическом памятнике Самосдельс кое городище (фототабл. III ; Гончаров 2001: 154; Петров и др. 2020: 75). На Устюрте таких монет пока обнаружить также не удалось. Поэтому наше утверждение, сделанное ранее о территориальной принадлежности чеканки таких динар ов именно «эмиссионному» центру на Мынгистау (Мангышлак) (Петров и др. 2020: 75), пока подтверждается. Если их чеканка осуществлялась непосредственно на Шеркале, то даже в ближайшей округе, и в том числе в находках с городища Кызылкала, они могут отсутствовать. Крайне ограниченное количество штемпелей, которыми биты эти экземпляры, свидетельствует о краткосрочности их выпуска.
-
4 Выводы
Комплекс кладов, их единовременность, характер сокрытия и привязка к средневековой базарной площади, примыкающей к караван-сараю, указывают на историческое событие второго десятилетия XIII в., связанное с прекращением функционирования Шеркалинской торговой фактории, расположенной на караванном пути через п-ов Мынгистау (Мангышлак). Вероятнее всего, это было нападение и разграбление, произошедшее в самый канун разгрома войсками Чингисхана государства Хорезмшахов, приведшего к вр еменному нарушению коммерческого сообщения между странами Центральной Азии и Восточной Европы.
Не вызывает сомнения посыл о том, что Шеркалинский караван-сарай и базарная площадь являются единым торгово-хозяйственным комплексом с соседствующим городищем Кызылкала, находящимся в глубинных районах полуостров а и являющимся транзитным пунктом на торговом пути, ведшим из Хорезма к побережью Каспийского моря. По пути следования промежуточные остановки караванов на водопой и отдых обустраивались караван-сараями и крепостями-убежищами, игравшими роль временных складских сооружений
№ 18. 2024
(Астафьев 2010: 47—51). На территории современного г. Ф орт-Шевченко на берегу глубокой бухты (ныне сухого сора Аккеттик) располагалась одна из конечных точек сухопутной трассы — портовое поселение Коргантас (Астафьев 2010: 51—54). Оно имело естественную скальную цитадель, укреплённую крепостными стенами. Склоны цитадели были обустроены небольшими помещениями на искусственных террасах и площадками для установки юрт. На поверхности поселения встречены обломки глиняной посуды, аналогичной материалам Кызылкалинского городища и Хорезма XII — XIII вв.
Вторая морская пристань находилась на южном побережье залива Кочак, известная в документах XVI — XVIII вв. под названием Караганская (Мангышлакская или Сарташская). Она функционировала по крайней мере с XI по XVIII в. (Астафьев, Петров 2017: 107— 108, 112). В настоящее время морской залив, на берегу которого располагалась пристать, исчез из-за падения уровня Каспийского моря. На одном из участков древнего берега зафиксирован маломощный культурный слой с керамикой кызылкалинского типа, перекрытый морскими отложениями каспийских трансгрессий периода XIV и начала XIX в. Кроме того на пристани и в её окрестностях найдены монеты и могильник XI — XII вв.
Караван-сарай и базарная площадь у горы Шеркала являются составной частью средневекового и хорошо организованного мангистауского (мангышлакс кого) варианта северного ответвления трассы Великого Шёлкового пути. Исследование этого комплекса позволит обогатить наши знания о разных направлениях организации транзитной торговли и функционирования товарно-денежных отношений Каспий-Аральского региона периода средневековья.
Список литературы Монетно-вещевые клады средневекового торжища у горы Шеркала (Мангистау)
- Астафьев А.Е. 2010. Пути торговых сообщений эпохи средневековья на территории Арало-Каспийского водораздела. Актау: [б.и.].
- Астафьев А.Е., Петров П.Н. 2017. Полуостров Мангышлак в морском торговом сообщении эпохи Золотой Орды. Археология Евразийских степей. Нумизматика и эпиграфика 6, 101—115.
- Беленицкий и др. 1973: Беленицкий A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. 1973. Средневековый город Средней Азии. Ленинград: Наука.
- В Мангистау найден клад золотых и серебряных предметов. 2016. В: Новости Актау и Мангистау. 22.11.2016. URL: https://www.lada.kz/aktau_news/society/43961-v mangistau-nayden-klad-zolotyh-iserebryanyh-predmetov.html (дата обращения 01.03.2024).
- Васильев Д.В. 2015. Город и область Саксин в свете новых данных археологии. Поволжская археология 2 (12), 189—267.
- Галкин Л.Л. 1990. Куда ушел последний караван? Наука и жизнь 9, 98—102.
- Гончаров Е.Ю. 2011. Очерк нумизматики Самосдельского городища. В: Васильев Д.В. (отв. ред.).
- Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань: Астраханская цифровая типография, 154—158.
- Зиливинская Э.Д. 2018. Архитектура Золотой Орды. Ч. II. Гражданское зодчество. Казань: Отечество.
- Калменов М.Д. 2007. Средневековое городище Кызылкала. В: Сдыков М.Н. (гл. ред.). Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Вып. 1. Уральск: Полиграфсервис, 144—164.
- Калменов М.Д. 2012. Археологические аспекты планировки территориальных границ средневекового городища Кызыл-кала (X—XIII вв.). Вестник Челябинского государственного университета 16 (270), 5—7.
- Калменов М.Д., Бижанова А.Е. 2019. Топография и хронология средневековых поселений западных регионов Казахстана. В: Бочаров С.Г., Ситдиков А.Г. (ред.). Генуэзская Газария и Золотая Орда. Т. 2. Казань; Кишинев: Stratum Plus, 237—261.
- Марыксин и др. 2022: Марыксин Д.В., Попов П.В., Крыгин А.П. 2022. Работы на городище Кызылкала в 2021 году и предварительный анализ керамического материала. Археология Евразийских степей 3, 98—105.
- МГИКЗ. КП-1054: Астафьев А.Е. 2009. Отчет о проведении археологических исследований средневекового городища Кызылкала (10—13 вв.) в 2009 г.
- МГИКЗ. КП-1147: Астафьев А.Е. 2010. Археологические исследования на памятнике Кызылкала (X—XVII вв.) в 2010 году.
- МОИКМ. КП 4160/1,2: Галкин Л.Л. 1984. Отчет о работах в Северо-Восточном Прикаспии в 1983 году Мангышлакская область Казахской ССР.
- Петров и др. 2020: Петров П.Н., Астафьев А.Е., Белтенов Ж.М. 2020. История полуострова Мангышлак в памятниках нумизматики. В: Мухтарова Г.Р. (отв. ред.). I Иссыкские чтения: Золотой человек и проблемы археологии кочевников степного пояса Евразии: материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Есик: ГИКЗМ «Иссык», 73—78.
- Ягодин В.Н. 1991. Стреловидные планировки Устюрта (Опыт историко-культурной интерпретации). Археология Приаралья. Вып. V. Ташкент: ФАН.