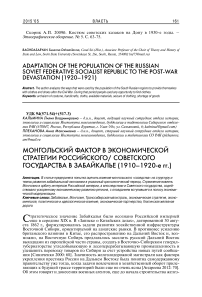Монгольский фактор в экономической стратегии российского/ советского государства в Забайкалье (1910-1920-е гг.)
Автор: Кальмина Лилия Владимировна, Плеханова Анна Максимовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка оценить влияние монгольского «соседства» на структуру и темпы развития забайкальской экономики в указанный хронологический период. Стремление вовлечь Монголию в орбиту интересов Российской империи, а впоследствии и Советского государства, содействовало ускоренному экономическому развитию региона, с опозданием вступившего в полосу экономической модернизации.
Забайкалье, монголия, транссибирская магистраль, экономическая стратегия, экономическое, политическое и идеологическое влияние, экономическое партнерство, кяхтинская железная дорога
Короткий адрес: https://sciup.org/170167928
IDR: 170167928 | УДК: 94(571.54)+(517.3)
Текст научной статьи Монгольский фактор в экономической стратегии российского/ советского государства в Забайкалье (1910-1920-е гг.)
Стратегическое значение Забайкалья было осознано Российской империей еще в середине XIX в. В «Записке о Китайских делах», датированной 30 августа 1862 г., формулировались задачи развития хозяйственной инфраструктуры Восточной Сибири, ориентируемой на азиатские рынки. В противовес усилению британского влияния в Китае, его распространению на Дальний Восток и, возможно, на Восточную Сибирь предлагалось заселить русский Дальний Восток выходцами из европейской части страны, создать в Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве угледобывающую и лесоперерабатывающую промышленность и удешевить перевозку товаров по Сибири за счет устройства новых путей сообщения [Синиченко 2000: 68]. Значимость железнодорожной магистрали как фактора укрепления престижа России на Дальнем Востоке была понятна самодержавному правительству уже тогда, когда задачи вовлечения в хозяйственный оборот прилегающих к будущей трассе территорий были еще не очень ясны [Андреева 2012: 70]. Об этом говорят и донесения военных агентов, еще до начала строительства желез- нодорожной магистрали проводивших «ближайшее исследование» Монголии на предмет возможности «безостановочного и возможного продвижения войск» по ее территории». В первую очередь они обращали внимание на необходимость строительства здесь железных дорог, поскольку «при следовании и передвижении армии, пожалуй, будет труднее победить природу, чем неприятеля»1.
Близкое соседство с Монголией усиливало позиции забайкальского региона и сулило ему завидные перспективы не только как транзитному пункту для идущих за границу товаров, но и как экономическому плацдарму для реализации честолюбивых планов империи по втягиванию центральноазиатского пространства в орбиту своего экономического и политического влияния. Однако регион не был готов к выполнению этих функций. На рубеже XIX – XX вв. Забайкалье все еще имело неразвитую экономику, нацеленную главным образом на форсированное выкачивание природных богатств. Доставка чайных грузов более дешевым морским путем подорвала монопольное положение Кяхты и существенно сократила торговлю на этом участке границы, оставив на долю бывшего крупнейшего торгового центра только небольшую торговлю с Монголией с ярко выраженным пассивным балансом. Ввоз монгольских товаров в Россию в 7 раз превышал вывоз русских товаров в Монголию [Дружинина 2005: 81]. Причем пассивность эта росла с каждым пятилетием.
В предстоящей задаче экономического укрепления Забайкалья для реализации российских интересов в Монголии первым значительным шагом стало сооружение Транссибирской магистрали. Правда, ее Забайкальский участок, дававший около 9 руб. убытка на каждую пудо-версту из-за искусственного применения льготных тарифов, преобладания пассажирских перевозок над грузовыми и низкой интенсивности движения, считался самым убыточным на всем протяжении магистрали [Кнорринг 1910: 197-199]. Однако эта убыточность фактически была предусмотрена Особой высшей комиссией для всестороннего исследования железнодорожного дела в России, которая признавала «возможность отнесения части расходов на содержание дорог, построенных по соображениям стратегическим и политическим» [Баталова 2006: 162].
Синьхайская революция и объявление Монголией независимости вызвали большой интерес в России: в правительстве осознавали важность Монголии для реализации российских политических и экономических интересов на Дальнем Востоке. Усиление экономической мощи Забайкалья, являвшегося связующим звеном между Монголией, Китаем, российским Дальним Востоком и Центральной Россией, вошло в число первостепенных задач правительства.
Роль стартовой площадки в планах России «отвоевать» Монголию у конкурентов должна была сыграть Кяхтинская ветка железной дороги, которую предполагалось протянуть от приграничной Кяхты до Транссибирской магистрали с перспективой проведения ее через Монголию до Пекина. Это было тем более важным, что Китай после неудачной попытки колонизации северо-востока Монголии для ослабления позиций России в этом регионе интенсифицировал железнодорожное строительство. Авторы экономической записки о значении Кяхтинской дороги, выделив значение Монголии для развития ее грузооборота в самостоятельный раздел, отвели ей роль соединительного звена России с монгольским рынком и, соответственно, средства выхода монгольских товаров на Сибирскую магистраль [Район Кяхтинской… 1913: 50-76]. При изучении Монголии «в военно-научном и военностратегическом отношении» российский военный агент настаивал на «скорейшем соединении рельсами г. Кяхты с одной из станций Забайкальской дороги», с тем чтобы продолжить ее по Монголии до г. Урги как начало магистрали на Калган, что позволит «чрезвычайно улучшить наше экономическое положение в Монголии» и «убить китайскую торговлю» 2 . В работе совещаний о развитии путей сообщения в Сибири, пр оводившихся у иркутского генерал-губернатора, вопрос о проведении
Кяхтинской ветки обсуждался весьма активно. Сторонники ее сооружения прогнозировали возвращение Кяхте статуса центра чайной торговли и повышение акций русского купечества на монгольском рынке, на котором ввиду слабого развития русского экспорта (не без китайского посредничества) прочно обосновались американские, английские и германские товары 1 . Само обсуждение этого вопроса заметно повлияло на объем русского экспорта в Монголию: с 1911 по 1914 г. вывоз мануфактуры через Кяхтинскую таможню возрос с 83,3 до 379, 5 тыс. руб. [Старцев 2003: 186].
Начавшаяся мировая война, с одной стороны, поставила под сомнение успешность планов усиления экономического влияния России в Центральной Азии: через открытую Монголией китайскую границу сразу хлынул поток американских и английских товаров. Однако, с другой стороны, с реальной угрозой потери индустриальных районов в Европейской России пришло убеждение в необходимости ориентации на азиатский рынок. И, поскольку Монголия прочно заняла положение центра интересов России на Востоке, шансы Забайкалья на обретение роли стратегического плацдарма для реализации в Монголии имперских интересов резко возросли. За второе десятилетие ХХ в. добыча угля в Западно-Забайкальском горном округе возросла более чем в 3 раза. Стремительно развивалась цементная промышленность, получившая возможность сравнительно дешевой и надежной доставки оборудования для собственного технического перевооружения. Интенсивно работала лесообрабатывающая промышленность: 6 лесопильных предприятий Западного Забайкалья выпускали 40 тыс. куб. м леса [Берсенев 1972: 35]. Планировалась освоение месторождений слюды, асбеста, меди, железа. Разрабатывались планы создания крупных промышленных предприятий не только добывающей, но и перерабатывающей промышленности.
Желание российского капитала утвердиться в Монголии объективно послужило катализатором развития экономики Забайкалья. Обозначившаяся тенденция стала еще более явной, когда в апреле 1913 г. Государственная дума приняла окончательное решение о сооружении за счет казны железнодорожной линии Верхнеудинск – Кяхта. В октябре того же года Совет министров рассмотрел вопрос о возможности строительства ветки Кяхта – Урга для соединения Забайкалья с Монголией непрерывным железнодорожным путем, и практически сразу было принято решение о начале проведения изыскательских и проектных работ на монгольском направлении [Третьяков 2014: 119]. Однако практическое воплощение имперских замыслов по созданию в Забайкалье точки экономического роста посредством установления железнодорожного сообщения с Монголией было прервано мировой войной и последующими революционными событиями.
После завершения Гражданской войны и иностранной интервенции молодому Советскому государству, оказавшемуся в состоянии фактической блокады со стороны стран Запада и конфронтации со всеми мировыми державами, необходимо было кардинально решать проблему обеспечения защиты границ, особенно в связи с высокой вероятностью новых военных конфликтов. Именно поэтому укрепление восточных районов страны на основе форсированного экономического роста вновь стало одной из приоритетных задач уже новой – советской – власти. В результате замыслы самодержавия по превращению Западного Забайкалья в самодостаточный в экономическом плане регион были положены в основу развития молодой советской Бурят-Монгольской республики, образованной в мае 1923 г.
Восстановление разрушенного в годы социальных катаклизмов хозяйства и последующий подъем экономики республики должны были демонстрировать народам Востока преимущества социалистических методов хозяйствования и тем самым не только вовлекать их в орбиту советского экономического, политического и идеологического влияния, но и служить «плацдармом мировой революции на буддийском Востоке». Считалось возможным использование национального фактора – общности языка, истории, религии и культуры, а также стремления к еди- нению монголоязычных народов, в т.ч. бурят, – для решения задач мировой революции. Революция 1921 г., разрушившая основы феодально-теократического строя Монголии, предоставляла советскому руководству возможность рассматривать ее как «трамплин» для экспорта революции в Китай и далее по всей Азии.
Наряду с геополитическими, военно-стратегическими и идеологическими обстоятельствами, важность установления тесного сотрудничества Бурятии и Монголии в 1920-е гг. была обусловлена экономическими причинами. Во-первых, Монголия рассматривалась в качестве рынка сбыта продукции. Безусловно, в 1920-е гг. слабо развитая бурятская промышленность, работающая на старом, изношенном оборудовании, мало что могла предложить своему ближайшему соседу. Однако в перспективе аргументом в пользу организации на территории республики крупного промышленного комбината в составе действующих предприятий (при условии их расширения и переоборудования) и за счет строительства новых послужило наличие обширного рынка сбыта не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Монголии и Северной Маньчжурии. Госплан БМАССР определял перспективы широкого вывоза в Монголию продукции стекольного, винокуренного, электрометаллургического, целлюлозно-бумажного, лесопильного, лесохимического, маслобойного заводов [Козьмин 1926: 106-113].
Во-вторых, Монголия с ее богатым скотоводческим хозяйством могла быть важным поставщиком сырья для обрабатывающей промышленности республики. По данным Кяхтинской пароформалиновой камеры, в 1924/25 г. фактический вывоз из Монголии разных кож достиг 200 тыс. шт., однако в Бурятии задержалось лишь около 15%, а остальное транзитом было вывезено в другие регионы. Правительство БМАССР, считая подобную ситуацию недопустимой, связывало перспективы расширения Чикойского кожевенного завода с возможностью увеличения импорта в Бурятию монгольского кожсырья, стоимость которого в 1925 г. была на 11% ниже цен Верхнеудинского рынка 1 . Кроме того, при разработке пятилетнего плана ЦСНХ республики доказывал необходимость строительства в Верхнеудинске овчинношубного завода. Рентабельность этого производства доказывалась существованием в довоенное время в Кяхте сравнительно крупного частного овчинно-шубного завода, работавшего на сырье из Монголии, откуда только в 1914 г. было вывезено 625 тыс. овчин 2 .
Такимобразом,большинствопроектовэкономическогоростаБурят-Монгольской АССР, разрабатываемых в 1920-е гг., связывалось с укреплением и расширением хозяйственных связей с Монголией.
В качестве механизма обеспечения более устойчивого экономического партнерства с Монголией в 1920-х гг. вновь стал рассматриваться вопрос улучшения транспортных коммуникаций. В 1926 г. во время разработки Госпланом СССР проекта развития путей сообщения в 1-й пятилетке была реанимирована идея сооружения Кяхтинской железной дороги. Теперь инициатором ее строительства выступило руководство Бурят-Монгольской республики. В правительственных кругах данную линию стали нередко называть Верхнеудинск-Монгольской, поскольку изначально учитывалась возможность и даже необходимость ее продолжения в Монголию. Специалисты указывали: «Согласованная и цепко увязанная деятельность советских и монгольских торговых предприятий, надлежащая организация водного транспорта в пределах Монголии, соответствующие тарифы, держащиеся на уровне себестоимости, дадут возможность втянуть все монгольское хозяйство, по крайней мере, хозяйство Халхи – центральной части Монголии, в сферу влияния Кяхтинской железной дороги. Не только монгольское сырье, экспортируемое за границу, но и требующиеся для снабжения монгольского населения промтовары, как советского, так китайского и английского происхождения, в силу коммерческой выгоды пойдут по пути Урга – Верхнеудинск – Владивосток» [Козьмин 1926: 73]. Однако из-за ограниченности финансовых ресурсов реализация данного проекта государства опять затя- нулась. Лишь в 1936 г. было принято решение НКПС о разработке окончательных проектов сооружения железнодорожной магистрали Улан-Удэ – Кяхта (Наушки). Строительные работы начались в 1937 г., а рабочее движение поездов открылось 15 января 1939 г. С момента ввода в эксплуатацию Кяхтинская железная дорога стала играть огромную роль в экономическом развитии Бурятии и Монголии, способствуя их взаимовыгодному торгово-промышленному сотрудничеству.
Правительство республики планировало укреплять транспортные связи с Монголией не только посредством установления железнодорожного сообщения, но и через организацию регулярного пароходного сообщения по Селенге и Орхону. Данная задача в 1924 г. была поставлена перед созданным Селенгинским государственным пароходством в качестве первостепенной. Задача трудновыполнимая, поскольку пароходству в наследство достался изношенный, выходящий из строя, не всегда соответствующий условиям водопути флот: 19 пароходов и 35 непаровых судов возрастом от 23 до 54 лет [Помус 1928: 90]. В 1924–1925 гг. были проведены изыскательские работы, в результате которых была установлена возможность судоходства в пределах Монголии по Селенге на расстояние до 450 км, по Орхону – свыше 300 км [Козьмин 1926: 35]. За 3 года флот, обслуживающий бассейн Селенги, пополнился двумя новыми пароходами и одним теплоходом, благодаря чему грузооборот по реке увеличился с 6 337 т в 1924 г. до 18 514 т в 1927 г. (на 292%) [Помус 1928: 91-92].
Таким образом, стремление Российской империи вовлечь Монголию в орбиту своего экономического и политического влияния послужило главным стимулом для дальнейшего развития Западного Забайкалья. Несмотря на смену общественнополитического строя, экономическая стратегия Советского государства в Бурятии в 1920-е гг. по-прежнему имела ярко выраженный «монгольский» оттенок. Данное обстоятельство способствовало ускоренному экономическому развитию региона, что особенно отчетливо проявилось в период форсированного промышленного роста в 1930-е гг.
Список литературы Монгольский фактор в экономической стратегии российского/ советского государства в Забайкалье (1910-1920-е гг.)
- Андреева Т.И. 2012. Причины формирования частной железнодорожной сети Азиатской России. -Экономическая история Сибири XX -начала XXI в. Материалы III Всероссийской научной конференции. Барнаул, 29 июня -1 июля 2012 г. Барнаул: АКИПКРО. Т. I. С. 64-73
- Баталова Т.И. 2006. Проблема дефицита в железнодорожной сети Азиатской России в конце XIX -начале ХХ в. -Экономическая история Сибири ХХ века. Ч. 1. Барнаул: Изд-во Алтайского университета. С. 153-164
- Берсенев Л.Ф. 1972. Экономическое развитие Забайкалья в период между двумя революциями (июнь 1907 -февраль 1917 г.). -История экономического развития Забайкалья в конце ХIХ -начале ХХ века. Забайкальский краеведческий ежегодник. № 6. Чита: Редакционно-издательский сектор Забайкальского филиала Географического общества СССР. С. 29-41
- Дружинина А.В. 2005. Развитие торговли уездных, безуездных городов Иркутской губернии и Забайкальской области в конце ХIХ -начале ХХ вв. -Сибирский город XVIII -начала ХХ веков. Вып. V. Иркутск. С. 77-89
- Кнорринг Ф. 1910. Попытка определить хозяйственность эксплуатации железной дороги. Иркутск: Типо-литография П. Макушина и В. Посохина. 212 с
- Козьмин Н.Н. 1926. Основы капитального строительства в Бурятии. Верхнеудинск: Госплан БМ АССР. 144 с
- Помус М. 1928. Пути развития водного транспорта в Бурятии и Селенгинское пароходство. -Жизнь Бурятии. № 1-3. С. 89-94
- Район Кяхтинской железной дороги в экономическом отношении (под ред. П.П. Червинского). 1913. СПб.: Тип. Т-ва С. Суворина «Новое время». 212 с
- Синиченко В.В. 2000. К вопросу о выборе стратегии развития внешнеэкономических связей Восточно-Сибирского региона в 60-х гг. ХIХ в. -Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск. С. 67-71
- Старцев А.В. 2003. Русская торговля в Монголии (вторая половина XIX -начало XX в.). Барнаул: Изд-во АлГУ. 308 с
- Третьяков В.Г. 2014. Монголия как геополитический центр притяжения железнодорожного строительства в конце XIX -начале ХХ века. -Россия и Монголия в начале XX века: дипломатия, экономика, наука. Кн. 3, Ч. 1. Материалы 3-й Международной научно-практической конференции: сборник научных трудов. Иркутск; Улан-Батор: Изд-во БГУЭП. С. 110-120
- Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. XLVIII. СПб.: Издание военно-учетного Комитета Главного штаба. 1891. С. 140.
- Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. XLVIII. СПб.: Военная типография. 1913. С. 299-300.
- Труды совещания 1906 г. в г. Иркутске о путях сообщения в Сибири. В 2 т. Материалы. Т. II. Иркутск: Издание канцелярии Иркутского Генерал-Губернатора. 1908. С. 221-222.
- Перспективы и ближайшие задачи хозяйственного строительства БМАССР. Верхнеудинск: Госплан БМ АССР. 1927. С. 51.