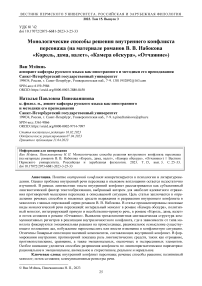Монологические способы решения внутреннего конфликта персонажа (на материале романов В. В. Набокова «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние»)
Автор: Ван М., Пинежанинова Н.П.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Понятие внутренний конфликт конкретизируется в психологии и литературоведении. Однако проблема внутренней речи персонажа в языковом воплощении остается недостаточно изученной. В рамках лингвистики текста внутренний конфликт рассматривается как субъективный лингвистический фактор текстообразования, выбранный автором для наиболее адекватного отражения противоречий мышления персонажа в описываемой ситуации. Цель статьи заключается в определении речевых способов и языковых средств выражения и разрешения внутреннего конфликта в монологах главных персонажей серии романов В. В. Набокова. В статье проанализированы основные виды монологической речи персонажей: интеральный монолог в романе «Камера обскура», политипный монолог, интегрирующий прямую и несобственно-прямую речь, в романе «Король, дама, валет» и поток сознания в романе «Отчаяние». Выявлена трехкомпонентная синтаксическая структура коммуникативных регистров в реализации внутриличностного конфликта, где в зависимости от типа монолога фиксируются эмоциональная реакция на происходящее, рациональное осмысление существующего положения дел, побуждение переосмыслить или внести изменение в конфликтную ситуацию. Отмечены бинарные оппозиции значений компонентов, составляющих внутренний конфликт. В формировании внутренних противоречий показана роль лингвистических средств, таких как отрицание, противопоставление, сравнение, а также эмоциональных, оценочных и экспрессивных элементов. Особое внимание уделяется способам разрешения конфликта по лингвопрагматическим параметрам: рациональное и эмоциональное, аномальное и стереотипное, реальное и нереальное.
Внутренний конфликт персонажа, речевые способы решения, политипный монолог, поток сознания, коммуникативные регистры речи
Короткий адрес: https://sciup.org/147241904
IDR: 147241904 | УДК: 81’42 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-25-33
Текст научной статьи Монологические способы решения внутреннего конфликта персонажа (на материале романов В. В. Набокова «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние»)
Внутренний монолог является важнейшим лингвистическим средством раскрытия и интерпретации внутреннего мира персонажа в художественном тексте. Изучение языковых особенностей внутренних монологов, где фиксируются эмоциональные переживания персонажа, его отношение к происходящему и принятие сложных решений, позволяет определить мотивацию поступков персонажа, его ценностные ориентации и способы реализации внутреннего конфликта, когда потребности, желания или чувства персонажа входят в противоречие с его убеждениями, представлениями о себе или общепринятыми ценностями. В художественном тексте внутренний конфликт персонажа воплощается в интеральной монологической рефлексии, прямом и несобственно-прямом монологическом дискурсе, а также в регулировании противоречивых мыслей потоком сознания. Каждая из этих форм интраперсонального общения имеет свои структурные и семантические особенности, которые находят отражение в выполняемых ими функциях.
Интеральный монолог как типичная речевая модель передачи внутреннего конфликта персонажа характеризуется диалогическими репликами. Такое сверхфразовое единство вопросноответного комплекса принято называть диалоге-мой [Стельмашук 1993: 55]. В диалогеме инте-рального монолога реализуются взаимообратные речевые интенции персонажа, которые кодируют реактивный, генеритивный и волюнтивный коммуникативные регистры [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 32–33].
Монологи персонажа могут включать чужую речь в собственные размышления. В таком случае чужая речь воспринимается как другая оценка происходящего, иное понимание действительности, конфликтующее с собственным мнением. Такую чужую речь М. М. Бахтин понимает как выказывание, которое переносится в речь другого субъекта [Бахтин 1995: 23]. В монологической речи персонаж может анализировать актуальные проблемы и принимать решения по результатам взаимодействия различных речевых инстанций – собственных и лирического героя [Кусько 1980: 33], источником-прототипом которого является нарратор. Соотношение этих двух голосов отражается во временной и пространственной речевых дистанциях [Акимова 2016: 154], которые определяют ситуативный регистр (непосредственная персональная речь) и тематический регистр (дистанцированная нарративная речь) [Жеребков 1985: 68].
Прямая речь персонажа фиксирует и передает его собственный голос без интерференции голоса автора, в то время как несобственно-прямая речь является скрытой формой вмешательства авторского голоса в персонажную речь. Несобственнопрямая речь считается самой экономной формой реализации нарративного голоса в монологе персонажа. Один и тот же объект одновременно воспринимается и оценивается с субъективной (персонажной) и с объективной (нарративной) стороны, при этом художественный монологический фон становится политипным [Артюшков 2004: 27–28].
Внутренний конфликт персонажа формирует его противоречивое мышление в потоке сознания. Поток сознания, как технический перевод непосредственных мыслей и чувственных образов персонажа на словесный язык [Черевко, Ря-гузова 2018: 164–165], отличается своей пассивностью и неупорядоченностью [Андреева 2013: 11], непрерывностью и плотностью, нелогичностью и ассоциативностью [Черевко 2018: 297]. В потоке сознания вербализируется психология персонажа и детализируется полная картина его внутреннего мира [Черныш 2000: 47].
Эпизоды субъективного осмысления событий в потоке сознания персонажа характеризуются прерывной синтаксической структурой [Вайтман 2001: 355–356] и обусловливают построение фрагментов потока сознания по принципу нелинейности. Данный принцип определяет использование экспрессивных синтаксических способов создания динамичности, импульсивности и выразительности мыслительного процесса, многоуровневой пространственной структуры смыслов и разноместной контекстуальной имплицитной связи, представленной параллелизмами и антитезами [Оттенс 2012: 96].
Поиски собственного способа изображения потока сознания в художественном тексте отразились в размышлениях В. В. Набокова по этому вопросу. В. В. Набоков указывал на стилистическую условность в передаче мышления персонажа, поскольку человек думает не только словами, но и образами. В потоке сознания, по мнению писателя, перемежаются текущие и устойчивые мысли, закрепившиеся в памяти, однако в письменном воспроизведении мыслей обычно смазан временной элемент. Выразительность и реалистичность в изображении потока сознания писатель связывал с отбором и регистрацией в произведении отдельных мыслей персонажа, представляющих субъективный взгляд с его позиций [Набоков 1998: 390].
В серии романов «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние» В. В. Набоков переходит от традиционной для эмигрантской литературы ностальгической темы России к европейскому внереалистическому типу романа и метароману, в которых создает новые модели органи- зации монологической речи, включающей в себя внутренний конфликт персонажей.
В романе В. В. Набокова «Камера обскура» интеральный монолог служит главным способом отражения и решения внутриличностного конфликта главного персонажа Кречмара. Инте-ральный монолог в автокоммуникации персонажа представляет собой внутренний разговор и используется для обмена репликами, направленными на осмысление объектов рассуждения, отражение противоречивых позиций персонажа и выяснение причины возникновения его внутренней конфликтности или поиск вариантов ее устранения.
В интеральном монологе персонажа представлены ситуации нравственного выбора, когда перед персонажем возникает необходимость предпочесть один из возможных вариантов поведения в соответствии со своими представлениями о желаемом и действительном, о допустимом или недопустимом. Так, уже в начале романа заявлена основная коллизия внутреннего конфликта персонажа – отношение к обыденной семейной жизни и увлеченности любовной иллюзией:
Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема… Со мной происходит нечто невероятное . Надо затормозить , надо взять себя в руки [Набоков 2020а: 11].
Равнодушие к происходящему в семье экспрессивно выражено в реактивном регистре параллелизмом риторического вопроса Какое дело до… до… до… А мысль о возможном романе актуализируется в генеритивном регистре глаголом несовершенного вида настоящего времени происходит и необычностью ситуации нечто невероятное . Внутренний конфликт персонажа между безразличным отношением к семейному быту и привлекательной кинематографической иллюзией конструктивно разрешается параллелизмом нормативных высказываний в волюнтивном регистре Надо затормозить, надо взять себя в руки .
В другом интеральном монологе персонажа представлены две речевые интенции в размышлении о возможности развода с женой:
Развод? – Нет-нет, это немыслимо [там же: 144].
В реактивном регистре Кречмар задает себе вопрос, предполагающий возможность развода с женой, но затем повторный отрицательный ответ нет-нет в волюнтивном регистре категорически отклоняет предположение о разводе. Генеритив-ный регистр высказывания это немыслимо в качестве переосмысления первоначального намерения рациональным рассуждением служит подтверждением решения. Внутренний конфликт по поводу развода разрешается персонажем без сомнений и конструктивно.
В следующем интеральном монологе персонажа конфликтуют речевые позиции по отношению к обнаружению его измены братом жены:
Выследил , – Ну и пускай . Он мужчина, он должен понять [там же: 56].
Одна позиция представляет существующее положение дел и обобщена в генеритивном регистре глаголом выследил , в котором измена оценена негативно как вид преступления. Другую позицию отражает реактивный регистр должен понять , оправдывающий собственную измену. Волюнтивный регистр с побудительной частицей пускай, которая обозначает допущение и согласие, служит эмоциональным решением персонажа освободить себя от этических переживаний за репутацию. Внутренний конфликт, возникший из-за риска обнаружения измены, разрешен деструктивно пассивным допущением персонажа.
В дальнейшем повествовании персонаж, оставшийся слепым после автомобильной катастрофы, пытается в интеральном монологе прояснить причину внутреннего беспокойства в отношении к обеим женщинам:
В чём же дело? Аннелиза? Нет , она далеко. Она на самой глубине его слепоты, милая, бледная, грустная тень , которую нельзя тревожить. Магдины запреты? И это не то . Ведь это временно. Ему действительно вредно . Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде. Ей тоже, бедненькой , вероятно, нелегко отказывать… В чём же дело? [там же: 199–200].
Данный фрагмент интерального монолога начинается и заканчивается одним и тем же вопросом: В чём же дело? – что образует замкнутую композиционную рамку автокоммуникации персонажа. Первый внутренний голос персонажа в качестве ответа на собственный вопрос указывает, что причина в жене Аннелизе, а второй ответный голос полагает, что дело в Магде. Но отрицания нет , и это не то исключают оба предположения. Основание отклонения собственных выводов представлено в генеритивных и реактивных регистрах. Рациональное заключение о жене – Нет, она далеко – сменяется эмоциональными эпитетами милая, бледная, грустная тень . За рациональным суждением об отношении к Магде – Ему действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде – тоже следует эмоциональное выражение сочувствия и желания ее понимать – Ей тоже, бедненькой, вероятно, нелегко отказывать… Вопрос, начинающий и замыкающий интераль-ную речь, выделен повтором в волюнтивном регистре, что стимулирует дальнейший поиск ответа на него, свидетельствуя о неразрешенности внутреннего конфликта персонажа и усилении его душевной тревоги.
В интеральном монологе внутренняя борьба Кречмара между семейной жизнью и любовной иллюзией, женой и любовницей, разводом и изменой, физической и духовной слепотой регулируется чередованием рационального осмысления и эмоциональной реакцией. Принимаемые персонажем решения внутреннего конфликта влияют на переупорядочение его жизненных ценностей.
В отличие от интеральной монологической рефлексии персонажа, в несобственно-прямой речи нарратор со стороны рассматривает, анализирует и оценивает прямую речь персонажа, способствуя переосмыслению и формированию нового вывода. В романе В. В. Набокова «Король, дама, валет», символика названия которого подчеркивает его игровую направленность, показаны немецкие буржуа в виде карточных фигур как неодушевленные существа, лишь внешне уподобленные людям: коммерсант Драйер (король), его жена Марта (дама) и провинциальный родственник Драйера Франц (валет). Прямой и несобственно-прямой монологический дискурс порождает внутренний конфликт персонажей, основанный на расхождении во мнениях персонажей и всезнающего нарратора.
Мнения Франца и нарратора расходятся в прямой и несобственно-прямой речи: Нельзя предъявлять случаю слишком сложных требований , – где в генеритивном регистре безличное предложение транслирует жизненный принцип и демонстрирует негативное отношение нарратора к злонамеренности Франца. Именно так, пожалуйста, именно так, – чтобы мозги брызнули… Зажили бы тогда на славу, – в волюнтивном регистре повтор указательного модального слова именно , выражение просьбы пожалуйста , придаточный союз цели чтобы и сослагательное наклонение со значением ирреального желания выражают собственную интенцию Франца навсегда избавиться от своего дяди Драйера. Затем в реактивном регистре Франц дает оценочное определение первоклассное счастье воображаемой будущей жизни с Мартой без Драйера. А вернее всего, он жену переживет… [Набоков 2018: 131]. Далее в информативном регистре нарратор излагает сентенцию, намекая на неразумность замысла Франца. Итегрирование субъективных желаний персонажа в прямую речь, а объективных рассуждений в несобственно-прямую речь актуализирует различия между желанием персонажа и реальными ограничениями. Несобственно-прямая речь корректирует размышления Франца, направляя его решение в более конструктивное русло.
В несобственно-прямой речи раскрываются жизненные обстоятельства Марты и дается подробная аргументация отсутствия возможности осуществления ее желания: А что-нибудь нужно было сделать, – где в волюнтивном регистре Марта побуждает себя к внесению изменений в собственную жизнь. Совершенный вид глагола сделать и модальность необходимости демонстрирует решительность персонажа в принятии решения. Но оказывалось, что человеческую жизнь, как пожар, тушить опасно и трудно – в генеритивном регистре представлено нарративное осмысление человеческой жизни, исходящее из всеобщего опыта. Несовершенный вид глаголов оказывалось, тушить показывает универсальность излагаемого жизненного закона. Безличная форма сказуемого в главном предложении свидетельствует об отвлеченности нарративной речи. Вот-вот займется вся комната, запылает постель, – и уже лестница полна дыма, ступени исчезают – репродуктивный регистр восстанавливает воображаемый персонажем сценарий пожара на основе реально видимой комнаты и ощутимой опасности. Неодушевленные существительные-подлежащие создают иллюзию нарративного описания. Не выбраться… [там же: 184] – здесь в реактивном регистре представлен отрицательный эмоциональный вывод Марты после рассмотрения изложенных обстоятельств, выраженный несобственно-прямой речью. Употребление персонажем безличного возвратного глагола совершенного вида для выражения безысходности демонстрирует ее вынужденное принятие ситуации и деструктивный исход внутреннего противоборства.
В несобственно-прямой речи представлена конфликтующая с персональным решением позиция нарратора, объясняющая причины изменения отношения Драйера к воспоминанию о жене, которое передано прямой речью и является монологическим подтекстом: Не нужно думать об этом, нужно на время ничего не видеть, ничего не слышать. В волюнтивном регистре Драйер уговаривает себя прекратить думать о смерти жены и перестать реагировать на окружающее. Параллелизм отрицательных конструкций, усиленный повтором отрицательного местоимения ничего, выражает напряженность внутренней борьбы персонажа и его речевую экстремальность. Но что поделаешь, когда недавняя жизнь человека еще отражена на всяких предметах, на всяких лицах, и невозможно смотреть на Франца без того, чтобы не вспомнить солнечного пляжа и Франца с нею, с живою, играющей в мяч, – в информативном регистре нарратором излагается тот факт, что Драйер не может не воспоминать о покойной жене, поскольку окружающие предметы служат напоминанием о ней. Начальная обобщенно-личная конструкция Но что поделаешь означает эмотивно-оценочную реакцию на неизбежность, объективную обусловленность выражаемого далее наблюдения. Это наблюдение мотивирует следующую за речью нарратора прямую речь персонажа: Мяч, – сказал Драйер, не оборачиваясь. – Мяч… [Набоков 2018: 248]. В реактивных регистрах собственной прямой речи Драйер спонтанно называет повторяющимся словом предмет, ассоциативно связанный с воспоминаниями о жене, подтверждая, таким образом, невозможность контроля над мыслями и эмоциями после трагедии, что становится непродуктивным и деструктивным вариантом решения его внутреннего конфликта.
Внутренний конфликт персонажей интерпретируется в субъективно-непосредственных и объективно-отстраненных речевых позициях в прямом и несобственно-прямом монологическом дискурсе и решается согласованием или рассогласованием во взаимодействии этих внутренних позиций.
Если структура организации внутреннего конфликта персонажа в прямой, интеральной и несобственно-прямой речи дифференцируется, как было отмечено выше, по функциональным характеристикам коммуникативных регистров, то в потоке сознания внутренняя конфликтность персонажа воплощается в иной художественной структуре монологической речи. Поток сознания передает в тексте такие состояния сознания персонажа, как воспоминания, размышления, мечты, фантазии, что, в свою очередь, предполагает использование речевых способов выражения эмоциональности и алогичности, а также конфликт бинарных оппозиций и стремление их нейтрализовать.
В метаромане В. В. Набокова «Отчаяние» главный персонаж коммерсант Герман является одновременно и автором-повествователем собственной повести, в которой применяет поток сознания как писательский прием. В потоке сознания Герман, возомнивший себя художественным гением, рефлексирует по поводу своего текста, роли писателя и собственного преступления – убийства мнимого двойника.
В обращенном к читателям размышлении персонажа о собственном писательском творчестве выявляется несоответствие эффекта совершаемого действия его первоначальной цели:
Да, пустяк, шалость пера, но как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовным, яростно облегчая себя и вместе с тем сознавая, что никакое это не облегчение, а изысканное самоистязание и что этим путем я ни от чего не освобожусь , а только пуще себя расстрою [Набоков 2020б: 112].
Осмысление персонажем творческого процесса дифференцируется формами глаголов прошедшего и будущего времени: писал, …облегчая себя… сознавая… ; не освобожусь, себя расстрою . В этом эпизоде представление о времени передано не только формами глагола, но и окказиональными способами. Так, настоящее время сейчас соединяется с будущим удивитесь , обозначая момент речи, а будущее время представлено имплицитно в несоответствии проективных, еще не существующих, оценок романа пустяк, шалость пера, пошлятина и связанных с творчеством эмоциональных затрат: писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовным, яростно облегчая себя . В противопоставлении не облегчение, а изысканное самоистязание оксюморон изысканное самоистязание ( изысканное – утонченное, изящное) является метафорической антитезой, в которой переосмысляются оба члена словосочетания, и с психологической точки зрения представляет собой образный способ разрешения логически не объяснимой ситуации. Контрадик-торность смыслов в сознании персонажа поддержана экспрессией синтаксических параллелизмов в контрастной дизъюнкции: и вместе с тем…, что никакое это не…, а… и… ни от чего не…, а только… В потоке сознания внутренний конфликт персонажа, оценивающего психологические противоречия творческого процесса, находит парадоксальное самооправдание для дальнейшего усиления душевного напряжения.
В эпизоде потока сознания персонажа, размышляющего о собственной безопасности после совершенного убийства, противопоставлены объективные суждения о реальных фактах и его субъективные убеждения:
Для меня, в смысле моей безопасности, важно следующее: убитый не опознан и не может быть опознан . Меж тем я живу под его именем, кое-где следы этого имени уже оставил , так что найти меня можно было бы в два счета, если бы выяснилось , кого я, как говорится, угробил . Но выяснить это нельзя , что весьма для меня выгодно, так как я слишком устал , чтобы принимать новые меры. Да и как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил ? Ведь я же похож на мое имя , господа, и оно подходит мне так же, как подходило ему . Нужно быть дураком , чтобы этого не понимать [там же: 196].
В размышлении персонажа объективные факты изложены ретроспективно предикатами прошедшего времени следы оставил, кого угробил, устал, присвоил, подходило ему, а также сослагательным наклонением найти меня можно было бы и условной конструкцией если бы выяснилось, которые подчеркивают нереальное или возмож- ное действие. При этом субъективные убеждения персонажа выражены в настоящем времени и представлены как общефактические: убитый не опознан и не может быть опознан; выяснить это нельзя; похож на мое имя; оно подходит мне. Речевая тактика самоубеждения реализуется в сознании персонажа при помощи аргументации, представляющей собой психологические механизмы защиты, выраженные отрицанием не может быть; нельзя, рационализацией я слишком устал, чтобы принимать новые меры, завышением самооценки Да и как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил? и необоснованным утверждением Ведь я же похож на мое имя, господа, и оно подходит мне так же, как подходило ему.
Экспрессивные средства аргументации, такие как наречие слишком, местоимение в значении усиления степени качества с таким искусством ; усилительные частицы да , же и риторический вопрос, служащий для эмоционального утверждения, реализуют коммуникативную установку убеждения и способствуют вытеснению в сознании персонажа общепринятого мнения субъективным, неоспоримость которого аргументируется обобщенной сентенцией – Нужно быть дураком, чтобы этого не понимать . Предельная самоуверенность и утверждение собственного превосходства свидетельствуют о деструктивном выходе персонажа из внутреннего противоречия.
В потоке сознания персонажа конфликтуют его представления о собственном поведении в ситуации возможного разоблачения:
Мне бы скрываться, а я лезу на самое , так сказать, видное место , трудно было лучше выбрать. Но я устал ; чем скорее все это кончится , тем лучше [Набоков 2020б: 212].
Противопоставление в сознании персонажа гипотетической необходимости скрываться и характеристики собственного поведения, представленного образным самоощущением лезу на самое … видное место , получает в сложившейся ситуации ироническую оценку трудно было лучше выбрать. Признание я устал показывает неспособность к дальнейшей борьбе, и следствием этого психологического состояния становится обобщенный вывод, выражающий эмоциональное желание: чем скорее все это кончится, тем лучше. Повтор наречия лучше в ироническом контексте, где меняет свое значение на антонимичное, и в выводе из размышлений, где представлено иррациональное желание, свидетельствует о деструктивном разрешении внутреннего конфликта.
В потоке сознания персонажа осуществляется двойственная идентификация личности:
Французы! Это всего лишь репетиция. Держите полицейских. Сейчас из этого дома к вам выбежит знаменитый фильмовый актер. Он ужасный преступник, но ему положено улизнуть. Просьба не давать жандармам схватить его. Все это предусмотрено сценарием [там же: 219].
Двойственность личности персонажа воплощается в антитезах его образов ( актер – преступник ), полярных оценочных описаний ( знаменитый – ужасный ), модальных оттенков обращения от побудительности до просьбы ( держите полицейских – просьба не давать жандармам схватить его ) и релятивной значимости объекта ( всего лишь – все это ). В рефлексии о своей роли и деятельности персонаж включает психологическую защиту с помощью фантазии, в которой трансформирует социально неприемлемое и несоизмеримое в нормативное и предусмотренное: всего лишь репетиция , положено улизнуть , предусмотрено сценарием. Таким образом, внутренняя двойственность персонажа регулируется его аномальной идентификацией личности.
В потоке сознания внутренний конфликт Германа формируют его идентификационные оппозиции, включающие эмпирическое аспекты самопознания: априорный / апостериорный, индивидуальный / социальный, аномальный / нормативный. Внутренние представления о себе и собственной идентичности, не подтверждаемые реальностью, окружением, вызывают внутреннее рассогласование. Конфликт персонажа разрешается иррационально сознательным выбором собственных аномальных убеждений вместо общепринятых социально-нормативных положений.
Результаты проведенного анализа монологических способов решения внутреннего конфликта персонажей в серии романов В. В. Набокова позволяют сделать следующие выводы.
-
1. В романе «Камера обскура» внутренний конфликт Кречмара изображен в интеральном монологе как противоборство желаемого и должного, эмоционального и рационального. В романе «Король, дама, валет» внутренний конфликт персонажей представлен в политипном монологе как расхождение между мнениями персонажа и нарратора, которые представлены как субъективное и объективное выражение представлений о мире. В романе «Отчаяние» внутренний конфликт Германа выражен в потоке сознания как несоответствие аномального стереотипному, реального – нереальному.
-
2. В интеральном монологе решение внутреннего конфликта персонажа достигается регулированием эмоциональных и рациональных речевых интенций его внутреннего диалога в трехкомпонентной синтаксической структуре коммуникативных регистров: в реактивном регистре фиксируется эмоциональная реакция на проис-
- ходящее; в генеритивном регистре представлено осмысление ситуации в соотнесении ее с существующими нормами; волюнтивный регистр определяет решение персонажа.
-
3. В политипном монологе внутренний конфликт персонажа представлен интегрированием субъективных желаний и потребностей персонажа в прямую речь, а объективных рассуждений – в несобственно-прямую речь, что проявляет различия между желанием персонажа и реальными ограничениями. Разрешение внутреннего конфликта персонажа регулируется согласованием или рассогласованием субъективно-персонажной и объективно-нарративной речевых позиций. Соответственно, персонаж реагирует на несобственно-прямую речь регулятивами и контрмерами в реактивном регистре или побуждает себя к переосмыслению и изменению решения в во-люнтивном регистре.
-
4. В потоке сознания внутренняя конфликтность персонажа характеризуется оценочной поляризацией релятивной значимости антитез, нарастанием или убыванием модальных оттенков речи. Конфликт персонажа разрешается речевой тактикой самоубеждения, иррационально смещающей идентификационные критерии и меняющей восприятие действительности в сознании персонажа.
Таким образом, в серии романов В. В. Набокова «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние» прослеживаются внутренние конфликты персонажей, эксплицирующие диссонанс мышления в текстовой реализации. Речевые способы и языковые средства выражения в решении конфликта проявляют ценностные предпочтения, самооценку и самоидентификацию персонажа, определяя психологическую структуру его характера.
Список литературы Монологические способы решения внутреннего конфликта персонажа (на материале романов В. В. Набокова «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние»)
- Акимова Н. В. Роль внутреннего монолога и несобственно-прямой речи в создании образов героев в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2016. № 1. С. 104-109.
- Андреева О. Л. Лексико-грамматические особенности внутреннего монолога на материале романа Т. Хюрлимана «Фройляйн Штарк»: дипломная работа / Кубан. гос. ун-т. Краснодар, 2013. 58 с.
- Артюшков И. В. Внутренняя речь и ее изображение в художественной литературе: на материале романов Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2004. 46 с.
- Бахтин М. М. Человек в мире слова. М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1995. 139 с.
- Вайтман С. Г. Метаморфозы художественной мысли XX века // Континент. 2001. № 2. С. 354-356.
- Жеребков В. А. Коммуникативная модель как комплексный метазнак // Вопросы языкознания. 1985. № 6. С. 63-69.
- ЗолотоваГ. А., Онипенко Н. К., СидороваМ. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, Филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2004. 544 с.
- Кусько Е. Я. Проблемы языка современной художественной литературы. Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1980. 207 с.
- Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе / пер. с англ. под ред. В. А. Харитонова; предисл. к русскому изданию А. Г. Битова. М.: Независимая Газета, 1998. 507 с.
- Набоков В. В. Король, дама, валет: роман. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. 250 с.
- Набоков В. В. Камера обскура. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020а. 220 с.
- Набоков В. В. Отчаяние. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020б. С. 21-219.
- Оттенс Г. В. «Поток сознания» как повествовательная техника художественного модернистского произведения // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2012. № 2. С. 92-99.
- Стельмашук А. Диалогизация и способы ее реализации в различных речевых сферах современного русского языка (художественная и научная проза): дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 1993. 276 с.
- Черевко Г. В. Функция внутренней речи в рассказе В. В. Набокова «Совершенство» // Филология: научные исследования. 2018. № 4. С.296-301.
- Черевко Г. В., Рягузова Л. Н. Прием «потока сознания» Л. Н. Толстого в теоретической и художественной рефлексии В. Набокова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 4. С. 163-168.