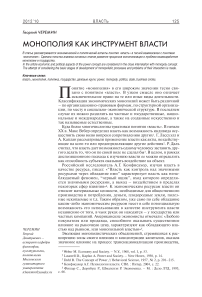Монополия как инструмент власти
Автор: Черемин Георгий Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 10, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются экономический и политический аспекты понятия «власть» в тесной взаимосвязи с понятием «монополия». Сделана попытка анализа основных этапов развития процессов монополизации и проблем взаимодействия монополии и государства.
Власть, монополия, политика, государство, деловые круги
Короткий адрес: https://sciup.org/170166086
IDR: 170166086
Текст научной статьи Монополия как инструмент власти
П онятие «монополия» в его широком значении тесно свя-зано с понятием «власть». В узком смысле оно означает исключительное право на те или иные виды деятельности. Классификация экономических монополий может быть различной — по организационно - правовым формам, по структурной организа -ции, по месту в социально экономической структуре. В последнем случае их можно разделить на частные и государственные, нацио нальные и международные, а также на созданные искусственно и так называемые естественные.
Куда более многочисленны трактовки понятия «власть». В начале XX в. Макс Вебер определял власть как возможность индивида осу -ществить свою волю вопреки сопротивлению других1. Г. Лассуэлл и А. Каплан рассматривали применение власти как акты, воздейству-ющие на кого-то или предопределяющие другие действия2. Р Даль считал, что власть дает возможность одному человеку заставить дру-гого делать то, что он по своей воле не сделал бы3. В целом, в рамках диспозиционного подхода к изучению власти ее можно определить как способность субъекта оказывать воздействие на объект.
Российский исследователь А.Г. Конфисахор, изучая власть в качестве ресурса, писал: «“Власть как контроль над значимыми ресурсами через обладание ими” характеризует власть как нена-блюдаемый феномен, “черный ящик”, вход которого определя-ется значимыми ресурсами, а выход — воздействием в пределах некоторых сфер влияния»4. К экономическим ресурсам власти он относит материальные ценности, необходимые для общественного производства и потребления, деньги, плодородные земли, полез ные ископаемые и т.д. Таким образом, уже само по себе обладание каким либо экономическим ресурсом несет в себе потенциальную возможность его использования в качестве инструмента власти независимо от того, в чьих руках он находится — у государства или частных компаний. Американские экономисты отмечали: «Любого покупателя или продавца, способного оказывать существенное влияние на рыночную цену, характеризуют как обладающего вла стью над рынком, или монопольной властью»5.
Эволюция монополистических объединений, стремящихся к рас -ширению зоны своего влияния и концентрации капиталов, оказала значимое влияние на процесс транснационализации производства, выступающий одной из отличительных черт динамики современной мировой эко -номики. Если в 1990 г. зарубежные фили -алы транснациональных корпораций гене -рировали 7% мирового ВВП, то к 2007 г. эта доля достигла 11%, а объем экспорта ТНК составлял 1/3 от общемирового объема1.
В настоящей статье предпринимается попытка проследить основные этапы такой эволюции, выделить ключевые факторы, способствовавшие укреплению либо ослаблению власти монополий, про анализировать проблемы взаимодействия государства и монополий и оценить совре менное положение дел в этой сфере.
Еще древнегреческий философ Аристотель упоминал о монополиях в рам -ках рабовладельческого строя. В различных формах монополизм проявлялся еще с IV тыс. до н.э. Первые классические моно -полии в экономической сфере появились во времена абсолютизма и были связаны с предоставлением монархами определенных привилегий тем или иным лицам и органи зациям, т.е. являлись производной от вла-сти монарха. В этой связи М. Вебер отме-чал: «Характерная для Англии XVII в. резко антимонополистическая направленность общественного мнения исторически сло жилась из сочетания политической борьбы против королевской власти [«Долгий пар -ламент» исключил монополистов из числа своих депутатов] с этическими мотивами пуританского учения и с экономическими интересами мелкой и средней буржуазии, враждебной финансовым магнатам»2.
В ходе буржуазных революций XVII— XVIII вв. установленные государством в лице королевской власти монополии, которые Томас Гоббс называл «болез-нью государства»3, были уничтожены. В результате возник капитализм свободной конкуренции, строившийся на принципах либерализма. Вместе с тем дальнейшее развитие индустриального общества вновь привело к образованию монополий, но уже в области частного предприниматель ства. Примером конфликта государства и монополистического объединения в этот период служит история Банка США, фак -тически сосредоточившего в своих руках всю финансовую деятельность в стране4. Данный конфликт завершился принятием самых жестких мер против Банка.
Монополистические тенденции в эко номике принимают наиболее выраженный характер в конце XIX в., что, прежде всего, связано с изменениями в технологическом способе производства. Предпосылкой таких изменений были промышленная революция конца XVIII — начала XIX в., возникновение новых отраслей промыш ленности и быстрое развитие производ ства во многих из них, прежде всего в лег кой промышленности, вследствие появ ления целой серии важных технических изобретений. В отличие от предыдущего технологического способа производства, где преобладал процесс концентрации личного фактора, который основывался на использовании ручного труда и ручной техники и развивался очень медленно, новый зарождающийся способ производ ства дал мощный импульс развитию про изводительных сил. Так, в Англии в пер вой половине XIX в. объем промышлен ного производства возрос в 4 раза.
Вторая половина XIX в. характеризуется обострением проблем общественного раз вития. Во первых, шло формирование таких противостоящих друг другу соци альных групп, как буржуазия и пролета риат, возрастала роль социалистической идеологии. Государство при этом высту пало, как правило, на стороне господству ющих классов. Во вторых, в этот период практически не осталось свободных ниш на рынках и территорий, т.к. раздел мира между ведущими державами завершился. В последней четверти XIX в. начался захват и раздел рынков путем образова ния монополистических объединений. Сосредоточив в своих руках огромную экономическую власть, капиталистиче ские монополии стали оказывать большое влияние на политические и социальные процессы, бросив вызов публичной вла сти. Но, как писал американский иссле дователь Ф. Фукуяма, «объединительное неистовство рубежа веков было останов лено вмешательством государства»5.
В новых условиях обострения общественно -политической обстановки государство было вынуждено изменить свою позицию в целях сохранения ста -бильности политической системы, играя роль арбитра, обеспечивающего баланс сил в обществе. В связи с этим усилилась регулирующая функция государства, в т.ч. и в экономической сфере. Ответом на наступление монополий стало принятие в конце XIX в. антимонополистических законов, прежде всего в США, где кон -центрация производства приняла гигант ские масштабы. Деловые круги перешли к более гибким и скрытым формам моно полистических объединений — акционер -ным обществам различных видов: корпо-рациям, холдингам и т.п.1
Отметим, что хотя организационные формы монополий на протяжении исто рии неоднократно менялись, как и среда их деятельности (в т.ч. политические системы государств), сущность их оста -валась прежней: стремление к единолич ному распоряжению ключевыми ресур сами. В этой связи уместно привести тезис В.П. Макаренко: «Демократия не исклю-чает появление групп, которые (по при чине экономической силы, социального статуса, политической необходимости и т.д.) навязывают обществу собственные политические решения»2.
Если первые монополии в экономиче -ской сфере возникали под контролем или с участием государства (привилегирован-ные компании, государственные мануфак туры и т.п.), то совершенно иной характер имела большая часть частных монополий, создававшихся в конце XIX в. путем укруп -нения, поглощения и слияний с целью повышения доли рынка до 100% и даль -нейшей максимизации прибыли. Процесс этот привел к тому, что крупные корпо рации овладели командными высотами в наиболее значимых отраслях экономики. После разрушительного мирового эконо мического кризиса 1929—1933 гг. ведущие государства вынуждены были обратиться к регулированию экономики в ц елях сохранения стабильности своей системы. В целом, в межвоенный период получило признание учение американского эконо миста Дж. Кейнса о необходимости госу- дарственного вмешательства в экономи ческую жизнь, что побудило крупнейшие корпорации к более активному взаимо действию с государством3.
В то же время в истории остались яркие примеры тесного сотрудничества госу дарства и монополий. Высокой степени взаимопроникновения они достигли в Германии, где еще в конце XVIII в. ключе -вые позиции в экономике заняли картели (прежде всего, сталелитейный Stalbverein , военные Thyssen и Krupp , электротехни -ческий Siemens-Schuckert ). Лоббируя свои интересы в союзе с воинственно настро енными элитами, они стали одним из ключевых факторов милитаристской трансформации германской политиче ской системы. После Первой мировой войны к ним присоединились химический трест Interessengemeinschaft Farbenindustrie и стальной трест Vereinigte Stahlwerke . Приход к власти нацистов стал высшей точкой альянса государства и монополий, т.к. в этот период государственная политика была направлена на принудительное объе динение предприятий вокруг крупнейших промышленных объединений, в т.ч. путем их конфискации у прежних владельцев (особенно «неарийского» происхожде -ния). Сами эти объединения, получая гигантские прибыли, стали неотъемлемой частью и могущественным инструментом тоталитарного режима. После его падения декартелизация стала одним из важней ших направлений послевоенного преоб разования Германии4 и оставила глубокий след в германской истории, из за чего в современной ФРГ любые экономические и политические акции, несущие в себе потенциал монополизации той или иной сферы, встречают жесткое сопротивление самой широкой общественности.
По мере дальнейшей эволюции миро вой политической и экономической системы характер взаимодействия моно полий и власти становится все более сложным. После окончания «холодной войны» диверсификации этого взаимо действия способствовал рост взаимозави симости экономических и политических акторов, усилившийся на фоне процессов глобализации и трансформации мировой политической системы. С одной стороны, несколько сотен международных монополий сосредоточивают в своих руках значительную экономическую власть и активно воздействуют на политические процессы, ограничивая традиционную политическую монополию государственной власти. Как пишет американский политик П.Дж. Бьюкенен, «когда речь идет об открытии границ, корпоративные и национальные интересы не то что не совпадают – вступают в резкое противоречие друг с другом»1. С другой стороны, контакты с политическими фигурами являются для корпораций залогом экономического успеха и стабильности, поскольку чиновники располагают бесценной конфиденциальной информацией2, а соблюдение установленных принципов и норм является обязательным условием деятельности компаний в рамках правового государства.
Рассмотрим данное взаимодействие через призму групп ресурсов, находящихся в исключительном распоряжении национального государства:
-
• силовая группа – легитимное принуждение, обеспечение правопорядка, сохранение целостности территории; недопущение создания параллельных силовых структур;
-
• правовая группа – издание законов, контроль за их исполнением;
-
• экономическая группа – сбор налогов и расходование государственных средств, денежная эмиссия, обеспечение целостности экономического пространства в пределах государственных границ.
В каждой из этих групп может наблюдаться противостояние интересов государства и деловых кругов. Монопольным функциям государственной власти могут быть противопоставлены действия различных негосударственных структур.
По мнению многих российских исследователей, неконтролируемый рынок может создать угрозу экономической безопасно сти государс тва3.
По предположению Г. Б . Новосельцевой, в целом контроль общества будет усиливаться в ответ на усиление корпораций-монополистов, принявших международный характер4. Но существуют и менее оптимистичные мнения. Так, Ф. Фукуяма утверждает, что «международная имперская власть» де-факто уже распространилась на всю «слаборазвитую» часть мира5.
Подводя итоги, можно отметить, что монополия изначально являлась инструментом политической и экономической власти государства, т.к. только ее наличие могло обеспечить его функционирование. В различные периоды взаимодействие монополий и государства принимало формы от противостояния до слияния и от практически полного отсутствия регулирования до абсолютной подконтрольности. На современном этапе такое взаимодействие отличается, во-первых, выходом большинства монополий на международный уровень и приобретением ими статуса ТНК. Во-вторых, оно характеризуется высокой интенсивностью взаимодействия и взаимозависимости с государственными структурами и многонаправленностью этого взаимодействия (от необходимости соблюдения норм трудового законодательства до лоббирования предоставления ресурсов, необходимых для дальнейшего развития деятельности, например, алмазных месторождений, как в случае компании De Beers ). Монополии подвергаются все большему давлению как со стороны гражданского общества, требующего от них социальной ответственности в виде заботы о культуре, экологии и образовании, так и различных международных неправительственных организаций и движений. Продолжение деятельности в рамках транспарентного общества неизбежно потребует от монополий выработки новых решений, соответствующих изменившимся социально-экономическим условиям.