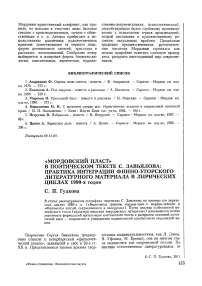«Мордовский пласт» в поэтическом тексте С. Завьялова: практика интеграции финно-угорского литературного материала в лирических циклах 1990-х годов
Автор: Гудкова Светлана Петровна
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Литературоведение. Критика
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается специфика творчества С. Завьялова на примере его лирических циклов 1990-х гг. («Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши» и «Фрагменты элегий, сохранившиеся в папирусах»). Путем анализа особенностей поэтического стиля (характера введения «мордовского материала») доказывается особая значимость формальной организации поэтического текста в раскрытии основной поэтической идеи — сохранение и утверждение национальной самобытности мордовской нации.
Короткий адрес: https://sciup.org/14719612
IDR: 14719612
Текст научной статьи «Мордовский пласт» в поэтическом тексте С. Завьялова: практика интеграции финно-угорского литературного материала в лирических циклах 1990-х годов
отличают «культурная рафинированность... соединенная с отсутствием априорно почтительного отношения к классической традиции. Изощренность версификации, стремление соединить малопопулярньге или экзотические для русской поэзии стихотворные формы с живой разговорной речью, важность иронии, вкус к стилизации и ролевой лирике» [8, с. 12].
-
В. Новиков, признавая значимость вышеназванных авторов для современного литературного процесса, склонен рассматривать «филологическую поэзию» безотносительно к географическому пространству, акцентируя внимание на том, что «произошло „расширение" поэзии, и „филологиям" стал теперь доминантой не только петербургской, но и всей русской поэзии» [7, с. 171]. Исследователь выделяет авторов, имеющих прочную филологическую базу, поднявших качественный уровень современного стиха. С. Завьялов, бесспорно, занимает среди них прочное положение.
Особый интерес вызывает тот факт, что уроженец Царского Села, филолог-классик по образованию, долгие годы преподававший античную литературу в петербургских вузах, обратился в творчестве к теме сохранения языка и культуры финно-угорских народов (мордвы, коми, удмуртов). «Мои предки действительно из царского места — древней столицы Арзамаса (Эрзямаса), района, который был центром мордовской полуудав-шейся-полунеудавшейся в XIII веке при инязоре (царе) Пургазе государственности, района, сопротивлявшегося христианизации дольше других» [Цят. по: 1], — вспоминал С. Завьялов. «Голос эрзянской крови» звучит на всем творческом пути поэта. В статье «Так что же нам делать? Мордовский взгляд на Россию» [5] он поднимает проблему постепенного исчезновения мордовской нации, история которой уходит в далекое прошлое. Потеря исторических корней, по мнению автора, ведет не только к вырождению малых народностей, занимающих значительную часть европейской территории России, но и к потере ими национальной самобытности, что приводит к утрате культурных ценностей в масштабе целого государства
Примечательно, что поэт хорошо знает историю финно-угорских народов: «Однако, как бы ни решали ее [Мордовии. — С. ГД прошлое сегодня, она существовала еще до прихода на Восточно-Европейскую равнину славян, о чем сообщил всем заинтересованным лицам готский хронист VI века Иордан. В начале XIII века (при инязоре/вели- ком князе Пургазе) можно засвидетельствовать некое раннегосударственное образование. Сначала его столицей был город Обра-ньош, но после его захвата (1221) владимирскими князьями (и переименования в Нижний Новгород) столица переносится южнее, в Арзамас. Татарское завоевание оставило о государстве Пургаза лишь воспоминания в фольклорных памятниках».
Он продолжает: «с 1979 по 1989 год сократилось число говорящих на коми с 367 до 352 тысяч, на удмуртском — с 546 до 520 тысяч, на чувашском — с 1 431 до 1 408 тысяч, на мордовском — с 865 до 777 тысяч <...>. В 1989 году в Коми 42 %, в Удмуртии 31 %, в Марий Эл 18 %, в Мордовии 37 % городского населения „титульной" национальности жили в национально-смешанных семьях (данные официальной переписи населения)» [5].
Поставленная автором в публицистических работах проблема нашла прямое художественное воплощение в поэтических текстах. В его стихах конца 1980-х гг. все громче звучит тревога: усиливающаяся экспансия русского языка ведет к потере национальных языков, утрате этнической самобытности «нашей прародины общей». Интересно название появившегося в тот период лирического цикла — «По дороге к дому», в котором автор предлагает поэтическое осмысление данной проблемы. Тем самым он не только подчеркивает обращение к близкой ему теме, но и предлагает современному читателю оглянуться назад, увидеть историческую значимость национальных языков.
Второй уж день ветер приносит дождь от одной из русских границ
Вот уже день переезжая взбухший Инсар я вижу мутную воду и только изредка чистое небо и только изредка крест над невзорванной церковью и лоскуты речи мордовской на вокзале на остановках троллейбуса у опустошенных витрин их вкрапленье случайно и еще случайнее ты в уродливом городе на дне этом жестком нашей прародины общей [4].
Привлекают внимание графическое оформление поэтического текста и необычный синтаксис, призванные обогатить содержательную сторону произведения. Как и многие представители «петербургской школы», С. Завьялов не использовал знаки препинания, роль которых выполняли много- численные разрывы и паузы. «Графика в первую очередь призвана визуализировать, сделать зримым этот разрыв, неуклонно перерастающий по мере чтения в более глубокий по своим последствиям разрыв с сил-лабо-тоникой как системой. Иными словами, она выполняет строго формальную, конструктивную функцию деформации материала наряду с ритмом» [10, с. 218]. Поэт отказался от силлаботонического стиха, характерной рифмы, привычной строфики, обратившись к гибкому верлибру с его повествовательной основой, способному передать сбой тональности, внутренние надломы, перепады дыхания. Исследователи творчества С. Завьялова усматривают связь его художественного метода с поисками новейшей французской поэзии (Андре дю Боше, Морис Ренье, Жак Рубо) и отчасти композиционной техники, «разработанной в пятидесятые годы американским поэтом Чарльзом Олсоном (так называемый проецирующий или разомкнутый стих)» [10, с. 218].
Старики в высоких шапках кора морщин глаз угадываемость они в могучих стволах укрываются от пронизывающих ветров перемен Великий мордвин резцом провел границы их бессмертий
Живой душой войти в ствол нации («По дороге к дому») [4].
я па поэзии С. Завьялова, склонного представлять поэтическую мысль в неком скомпонованном отрезке, характерна циклизация. Цикл «Мокшэрзянь кирьговонь грамматат» («Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши») [3], впервые опубликованный в «Арионе» за 1999 г., состоит из пяти текстов. В них воплощено формальное единство, направленное, на первый взгляд, на отсутствие смысла. Несоблюдение норм грамматики, разрушение логических, семантических и синтаксических связей вызывают эффект невнятного бормотания на чужом языке, «символизирующего потерянно и мучительно обретаемое национальное самосознание» [11].
Брат мой занесенный снега окоченевший мороз будто лишенный воздух холод такой чужой страна мы встретиться и ни язык родной ни какой общий оборот речь ничего уже ни даже память
Проигранное сражение родной очаг... [3].
А. Скидан также указывает на необычность формы завьяловского текста, подчеркивающую «насильственный переход с материнского языка на русский (язык-завоеватель), в результате чего стершиеся идиома „на ломаном таком-то'1 обретает трагический смысл, превращает текст в своего рода текст-руину» [10, с. 218].
Специфическими чертами представленного цикла являются обращение поэта к национальной эрзя-мокшанской мифологии, введение в текст отрывков из эпических песен мордвы или авторских стилизаций под национальный фольклор. Финал каждой части цикла представляет собой некий смысловой итог, концентрирующий основную идею разрушающихся смысловых фрагментов, данных на материнском языке. Поэт пренебрегает сложившимися литературными традициями, пересматривает роль эпиграфа, завершая им произведение. По словам С. Завьялова, «мы привыкли к переносному, позднему значению слова „эпиграф” — нечто такое, что введено в начале <....>. Каждая цитата как раз завершает стихотворение, то есть постепенно мой текст как бы переходит в цитату» [цит. по: 6]. Таким образом, смысловым центром является именно иноязычная цитата, скрепляющая «текст-руину», придающая ему широкое обобщенное звучание. «Предшествующий текст становится особенно ощутимым и значительным — цитата, как ни парадоксально, задает пространство внесословного смысла» [6].
О Береза дочерь Вирьава какая жадность какое рвение какая сила дерево богиня дать чтоб так беречь свой нежный кожа — кора нет места на он поцеловать какой он смуглый с черный крапинки как волосы желанно изогнутый и на он слово как московский песня короткий как сама жизнь
Вирь кучканяса Прясонза морей Вай кува морай Чнк-чирик-чирик Как среди леса А на ней поет Ох пост она Чик-чирик-чирик паргу келуня цимняй нармоння ейяк аварди морай-кольгонди кудрявая березонька голосистая птичка а сама плачет плачет-горюет [3].
Чуткий филологический слух позволяет поэту точно воспроизвести речь мордвина, настойчиво пытающегося передать мысль на чужом для него языке — русском. Бросающиеся в глаза нарушения языковых норм подчеркивают трагизм целой нации, передают беспокойство автора за ее судьбу. Этой же цели служит и введение стилизованного под мокшанскую народную песнь («Келу») отрывка, доводящего поэтическую мысль до логического финала. Таким образом, надрывная песнь лирического героя на ломаном русском языке выступает в контрасте с красотой звучания лирической песни, передающей голос целого народа.
На первый взгляд, тексты С. Завьялова, лишенные грамматических связей и форм, неудобочитаемы, не имеют красоты поэтического звучания. Это ощущение пропадает после пристального вчитывания-вглядывания в текст, имитирующий характерную тональность и распев эпических фольклорных песен мордвы. Здесь слышатся щемящая боль по утраченному прошлому, забвению традиции, тоска человека, голос которого напоминает скорбную песню.
тон марят — ты слышишь как они касаются век твоих ладоней твоих как они падают на горячие губы наших прошлых Любовей под ноги нашим детям на которых глядеть невозможно без слез тон марят - ты слышишь
А телине телине телесь ульнесь якшанзо А зима зима зима эта была холодная [3].
Современные критики не раз подчеркивали единство зрения и слуха при восприятии стихов поэта, где графическое оформление текста играет важную роль в передаче общей поэтической тональности: «Стихи Сергея Завьялова <...> лучше читать глазами, с листа, при восприятии только на слух теряют едва ли не самое главное — то, что с известной долей условности можно назвать асимметрией, конфликтом формы и содержания» [9]. Таким образом, графическое оформление, выступает «(де)конструк-тивным принципом», доминантой стиха, призванной визуализировать текст.
Примером подобного рода оформления поэтического текста является и цикл ELE-GIARUM FRAGMENTA in papyris reservata («Фрагменты элегий, сохранившиеся в папирусах») [2]. Поэт, как и в случае с «грамотами», создает стилизованное произведение, визуально и образно имитирует текст древнегреческого папируса («Эдип в ожидании Персифоны», «Метаморфозы», «Элегия Ана-харсиса» и др.). Ощущение древнего документа создают многочисленные пропуски, своего рода «темные пятна» утраченного смысла. Обращает на себя внимание обозначение мест нахождения «папирусов» — это древние мордовские центры, ныне российские провинциальные города: Саранск, Арзамас, Саров, Алатырь. «В этих стихах мордовские герои словно прикрываются античными масками, но это не Эдип, и не Анахарсис, и не Овидий говорят с нами, но народ, живущий на ущербе, где-то рядом со смертью» [И].
сТИБУЛЛ НА КОРКИРЕ>
Р. Suranensis
Cf.: Tib.1.3.92 :
Obvia nudato, Delia, curra pede
Делия, выбеги босиком мне навстречу и снова только ветер. . .
да, ветер. . .впрочем, довольно [тёплый) . .
астБИ качает. .листвою шелестит, граву на лугу [нескошенном(?)] примнет.
.рябь на [глади(?)] водной поднимет .и сквозь [порывы] его. .
почти неслышно, .так словно это [чудится] какие-то [обрывки] речей. .
[признаний] в любви.
.клятв. .рыданий.
и облака, .. .
улыбка. .гневом искаженный [рот] .[щеки] в слезах.
в бассейне по щиколотку [вода]. ..
босые ступни. с еле слышным [плеском]
. .и руки какою ж [нежностью]. .их переполняла некогда богиня.[2],
Соединение античной и мировой тематики в этом цикле неслучайно. С. Завьялов большую часть жизни посвятил исследованию античной литературы. Греко-римская культура, традиционно воспринимаемая как «высокая», мир мифологических осмыслений «оказывается дискомфортным, странным и раздробленным» [6]. Подобное наложение смысловых культурных пластов, «раздробленная архаика» подчеркивают индивидуально-авторское осмысление современного мира, теряющего «корни», разрывающего связи с традицией.
Таким образом, избранная С. Завьяловым оригинальная художественная фор- ма, представленная в лирических циклах 1990-х гг,, усиливает одну из наиболее значимых идей его творчества: противостояние угрозе ассимиляции мордовского и других финно-угорских народов, исчезновению национальных языков и культур.
Список литературы «Мордовский пласт» в поэтическом тексте С. Завьялова: практика интеграции финно-угорского литературного материала в лирических циклах 1990-х годов
- Губайловский В. Правое выравнивание. Сергей Завьялов (Петербург). Переводы с русского и другие стихотворения/В. Губайловский//Text Only. -2002. -№ 10 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.old.russ.ru/krug/20021121 gub.html. -Загл. с экрана.
- Завьялов С. Elegiarum fragmenta in papyris reservata (Фрагменты элегий, сохранившиеся в папирусах) (1997)/С. Завьялов//Завьялов С. Мелика/предисл. А. Скидана. -М., 2003 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.vavilon.ru/texts/prim/zavyalov2-3.html. -Загл. с экрана.
- Завьялов С. Мокшэрзянь кирьговонь грамматат (Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши) (1997 -1998)/С. Завьялов//Завьялов С. Мелика/предисл. А. Скидана. -М., 2003 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.vavilon.ru/texts/prim/zavyalov2-4.html. -Загл. с экрана.
- Завьялов С. Оды и эподы/С. Завьялов. -СПб.: Борей-Art, 1994 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.vavilon.ru/texts/zavyalovl.html. -Загл. с экрана.
- Завьялов С. Так что же нам делать? Мордовский взгляд на Россию/С. Завьялов//Неприкоснов. запас. -2003. -№ 2 (28). -С. 96 -99.
- Кукулин И. Как использовать шаровую молнию в психоанализе/И. Кукулин//НЛО. -2001. -№ 52 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.magazines.russ.ru/nlo/2001/52/kuk.html. -Загл. с экрана.
- Новиков В. Реквием по филологической поэзии/В. Новиков//Новый мир. -2001. -№ 6. -С. 167-179.
- Основные тенденции развития современной русской поэзии (1970 -2000): учеб.-метод, пособие/Казан, гос. ин-т, филол. фак., каф. рус. лит.; сост. А. Э. Скворцов. -Казань, 2005. -39 с.
- Скидан А. Обратная перспектива/А. Скидан [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.vavilon.ru/texts/skidan9.html. -Загл. с экрана.
- Скидан А. Сопротивление поэзии/А. Скидан//Знамя. -1999. -№ 2. -С. 217 -219.
- Стратановский С. Ночь над Инсар-рекой/С. Стратановский//Арион. -1999. -№ 3 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: -http://magazines.russ.ru/arion/1999/3/zavyal.html.-Загл. с экрана.