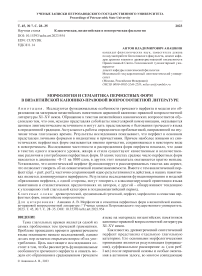Морфология и семантика перфектных форм в византийской канонико-правовой вопросоответной литературе
Автор: Анашкин Антон Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Классическая, византийская и новогреческая филология
Статья в выпуске: 7 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследуются функциональные особенности греческого перфекта и модели его образования на материале византийских памятников церковной канонико-правовой вопросоответной литературы XI-XV веков. Обращение к текстам византийских канонических вопросоответов обусловлено тем, что они, исходно представляя собой акты эпистолярной коммуникации, оказываются ценным лингвистическим источником и могут дать представление о бытовании греческого языка в определенной традиции. Актуальность работы определяется проблематикой, направленной на изучение темы глагольных времен. Результаты исследования показывают, что перфект в основном представлен личными формами в индикативе и причастиями. Причем наиболее живыми из синтетических перфектных форм оказываются именно причастия, сохранившиеся в некотором виде в новогреческом. Исследование частотности и распределения форм перфекта показало, что даже в текстах одного языкового уровня, жанра и стиля существуют качественные и количественные различия в употреблении перфектных форм. В одних текстах среднее число перфектных форм находится в диапазоне -8-11 на 1000 слов, в других этот показатель оказывается кратно меньше. Установлено, что синтетический перфект функционирует в рассматриваемых текстах как аорист, что позволяет говорить об их семантической взаимозаменяемости. Вместе с тем аналитический перфект (εἰμί + part. perf.), частично сохраняющий идею результативности действия, в наших памятниках является доминирующим перифразом. Результаты исследования функционирования и моделей образования перфекта, с одной стороны, могут говорить о классицизирующей ориентации языка памятников и стилистических предпочтениях их авторов, с другой - обнаруживают тенденцию к уплощению этой глагольной категории в поздневизантийский период.
Древнегреческий, средневековый греческий, перфект, морфология и семантика перфектных форм, византийские вопросоответы
Короткий адрес: https://sciup.org/147241471
IDR: 147241471 | УДК: 811.14 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.954
Текст научной статьи Морфология и семантика перфектных форм в византийской канонико-правовой вопросоответной литературе
Тема глагольных времен является одной из самых проблемных тем греческой грамматики. Проблеме прошедших времен в древнегреческом языке посвящено немало исследований , однако до сих пор остается открытым вопрос об их употреблении. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы рассмотреть функциональные особенности греческого перфекта и описать модели его образования в средневековом греческом языке на материале византийских памятников канонико-правовой вопросоответной литературы XI–XV веков.
Как известно, древнегреческий синтетический перфект представлял отдельную глагольную категорию. Его основными морфологическими признаками являются редупликация (приращение), суффиксальное расширение -κ- (для perf. I act.) после первичной основы и особые окончания в активном залоге, во многом совпадающие с окончаниями аориста активного. Первоначально его формы выражали физическое или психическое состояние в настоящем, результирующее некое действие в прошлом. Таким образом, перфект сочетает две временные зоны – прошлое и настоящее. Поэтому, во-первых, в отдельных случаях перфект может переводиться настоящим (perfectum praesens: ἕστηκα ‘я стою’) и, во-вторых, может употребляться в значении аориста (perfectum praeteritum). В IV веке до н. э. исследователями фиксируется утрата функционального различения греческими авторами перфекта и аориста [13: 102]1, [15: 270]. В период койне перфект приобрел значение законченного действия, а формы перфекта и аориста семантически становятся взаимозаменяемыми [12: 177], что находит отражение в морфологии, когда в формах перфекта используются окончания аориста и наоборот [9: 30], [13: 130]. В текстах Нового Завета синтетический перфект свободно чередуется с аористом2 [4: 77–81], [16: 314–322]. М. Хинтербергер считает, что в разговорном языке синтетический перфект, прекратив употребляться в результате этого процесса и как бы передав эту семантическую роль аористу, окончательно исчезает из живого языка на рубеже поздней Античности и ранневизантийского периода [12: 177]. Для обозначения результирующего состояния, выражаемого теперь аористом, в византийский период нередко использовались причастные описательные конструкции с εἰμί и ἔχω [6], [8]. Их полномасштабному диахроническому исследованию («от Гомера до наших дней») посвящена докторская диссертация У. Дж. Аэртса [5]3, который занимался изучением греческих причастных перифраз с εἰμί и ἔχω, включая конструкции с перфектным причастием. Аэртс обращает внимание на то, что причастные перифразы, встречающиеся уже в поэмах Гомера, часто использовались для форм perf. и pqpf. ind. в 3 sg. и послужили образцом для конструкций εἰμί + part. praes. [5: 51]. Новогреческий же перфект представляет собой конструкцию ἔχω + inf. aor. (неопределенная форма глагола с перфективной основой) [3: 125, 140], которая, как указывает М. К. Янссен, впервые засвидетельствована в текстах именно как форма перфекта не ранее конца XVII века [14: 245–246]4. Прямым наследником древнегреческого синтетического перфекта являются новогреческие застывшие перфектные причастия.
Ниже предлагаем к рассмотрению результаты наших исследований использования перфекта (и плюсквамперфекта) в памятниках византий- ской церковной эротапокритической письменности XI–XV веков, артикулируя внимание на морфологии обнаруженных перфектных форм и их семантике.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования послужили византийские канонические вопросоответы5. Рассматриваемые памятники вопросоответной литературы, уходящей корнями в античную традицию, претерпели жанровое превращение из актов эпистолярной коммуникации в собрание различных церковных прецедентов в вопросоответной форме [1], [2]6. В свете этого обращение к текстам византийских канонических вопросоответов можно считать и обоснованным, и необходимым, поскольку они оказываются ценным лингвистическим источником и могут дать представление о бытовании греческого языка в определенной традиции.
В таблице приведены количественные показатели встречающихся форм (синтетического и аналитического) перфекта с различением залоговой категории. Фактически речь идет о причастиях и формах в индикативе. Полученные результаты позволяют говорить о том, что личные активные и медиопассивные формы встречаются приблизительно в одинаковой пропорции с небольшим преобладанием в пользу активного залога (3/4). Однако при этом отметим, что в ответах Петра Хартофилакса отсутствуют активные личные формы, в ответах Нила Родосского – медиопассивные, а в ответах Никифора Хартофилакса мы вообще не обнаружили личных перфектных форм. В тех же ответах Петра Хартофилакса нет ни одного перфектного причастия; активных причастий нет у Никифора Хартофилакса и Нила Родосского, а медио-пассивных форм причастия – у Илии Критского и Никиты Фессалоникийского. В то же время медиопассивные причастия статистически встречаются несколько чаще активных. В ходе исследования ни в одном из наших текстов не было обнаружено ни одной формы конъюнктива, оптатива или императива. Зафиксирована единственная форма инфинитива: μεμνῆσθαι (Иоасаф Эфесский). Для выявления частотности использования перфекта и сопоставления полученного значения между текстами в таблице введен показатель среднего числа перфектных форм. Этот показатель был рассчитан нами по формуле [ x̅ perf = ( S perf * 100) / S wf ], где x̅ perf – среднее число форм в перфекте в расчете на 100 слов7, S perf – абсолютное число форм в перфекте, S wf – общее количество текстовых символов в источнике.
Употребление перфектных форм и показатель их среднего числа Use of perfect forms and their average number
|
Перфект |
||||||
|
Личные формы |
Participium / Infinitivus |
S perf |
x perf |
|||
|
Act. |
Med.-Pass. |
Act. |
Med.-Pass. |
|||
|
Никита митр. Ираклийский 13 вопр.-отв. (1305 слов) |
10 γεγόνασιν γέγονε(ν) 6 γέγονα ἔοικε(ν) 2 |
3 ἀπολελυμένη ἐστί ἐκπεφώνηται γέγραπται |
1 γεγονότα |
1 νενεμημένους |
15 |
1,15 |
|
Николай III Грамматик 19 вопр.-отв. (1348 слов) |
2 εἴρηκεν δέδωκε |
3 κεκώλυται 2 κατενήνεκται |
4 προημαρτηκότος προημαρτηκώς τεθνηκότων τεθνεώτων |
6 παραδεδομένας τεθρονιασμένον δεδομένης κεκωλυμένους προσκεκομισμένην περικεκλεισμένος |
15 |
1,12 |
|
Петр Хартофилакс 21 вопр.-отв. (656 слов) |
– |
2 κεκώλυται 2 |
– |
– |
2 |
0,3 |
|
Никифор Хартофилакс 5 вопр.-отв. (479 слов) |
– |
– |
– |
4 ὡρισμένοις προηγιασμένῃ 2 προηγιασμένην |
4 |
0,84 |
|
Илия Критский 7 вопр.-отв. (2721 слово) |
6 γέγονε(ν) 2 μεμαρτύρηκε 3 πεπλήρωκε |
4 εἴληπται δεδήλωται εἴρηται γέγραπται |
3 ἑωρακώς 3 |
– |
13 |
0,48 |
|
Лука Хриcоверг 20 вопр.-отв. (1431 слово) |
3 τετελεύτηκεν εὑρήκαμεν πεποιήκασιν |
2 ἀποκέκλεισται δεδήλωται |
2 τεθνηκότων τεθνηκότα |
5 μεμονωμένην μεμονωμένας δεδομένης κεκωλυμένους 2 |
12 |
0,84 |
|
Никита митр. Фессалоникийский 17 вопр.-отв. (1627 слов) |
2 γέγονε(ν) 2 |
1 κέκτηται |
2 γεγονός πεπορνευκότος |
– |
5 |
0,31 |
|
Нил Диазорен митр. Родосский 21 вопр.-отв. (1483 слова) |
1 παραδεδώκασι |
– |
– |
3 προηγιασμένην προηγιασμένα προηγιασμένης |
4 |
0,27 |
|
Иоасаф митр. Эфесский 54 вопр.-отв. (3030 слов) |
1 παραδέδωκεν |
7 προηγιάσται κεκώλυται 4 συγκεχώρηται ἔνι κεκωλυμένον |
2 τεθνηκώς τεθνηκότος |
19 κεχαρισμένα τεταγμένων τετελειωμένα κεκωιμημένους παραδεδομένον μεμνῆσθαι κεκωιμημένων 2 τετελειωμένον 2 προηγιασμένην προηγιασμένων προηγιασμένη προηγιασμέναι προκεκοσμημέναι ἀποτεταγμένην μεμνηστευμένης κεκτημένος κεκοιμημένων |
29 |
0,96 |
Полученные результаты указывают на то, что перфект наиболее активно используется следующими авторами – Никитой Ираклийским, Николаем Грамматиком, Никифором Хартофи-лаксом, Лукой Хриcовергом, Иоасафом Эфесским. Среднее число перфектных форм в них приближается к значению 1 на 100 слов (~ 8–11
на 1000 слов). В вопросоответах Петра Харто-филакса, Илии Критского, Никиты Солунского и Нила Родосского показатель частотности использования перфекта кратно меньше. Из данных таблицы также видно, что формы перфекта в основном представлены причастиями, причем нередко субстантивированными (τὰ γεγονότα,
ἡ προηγιασμένη, ὁ τεθνηκώς). Вполне вероятно, что уже в XI веке именно причастия были наиболее «живыми» из синтетических перфектных форм, поскольку, как мы говорили ранее, единственный сохранившийся неаналитический перфект в новогреческом языке – это именно застывшие причастные формы.
Даже с учетом результатов расчета показателя частности можно говорить о том, что употребление форм перфекта, который был важной частью глагольной системы древнегреческого языка классического периода [18: 35–38], [20], – явление нередкое для наших текстов (за исключением, пожалуй, ответов Петра Хартофилакса и Нила Родосского). И так же нередко авторы этих текстов используют его не только для выражения состояния или завершенного действия с результатом в настоящем, но как альтернативу аористу. Речь идет о синтетических формах перфекта. Например, в обороте ὃ εἴρηκεν ὁ ἀπόστολος едва ли можно предполагать, что действием сказуемого автор выражает результативность в настоящем:
Τί ἐστιν ὃ εἴρηκεν ὁ ἀπόστολος8· Ὁ ἐν χείλεσι μιανθείς; (Вопрос 12. Ответы Николая Грамматика).
Что означает сказанное апостолом: «Оскверненный устами»?
В вопросоответах Луки Хриcоверга действие сказуемых в перфекте и аористе находится в одной временной зоне:
Τετελεύτηκεν ἀδελφὸς συνήθως καὶ ἠσπασάμεθα τοῦτον (Вопрос 2. Ответы Луки Хриcоверга).
Умер брат обыкновенным образом, и мы его целовали.
Синтаксическое примыкание (или синтаксическая связка) личных форм синтетического перфекта и аориста, как нам кажется, убедительно показывают их семантическую взаимозаменяемость. Подобных примеров в наших текстах много, а такое функционирование перфекта можно обнаружить и в новозаветных текстах [12: 177– 178].
Выше мы уже говорили об использовании византийскими авторами причастных перифраз для форм perf. и pqpf. ind. в 3 sg. Отметим, что нами зафиксированы такие случаи употребления описательных форм перфекта пассивного:
Καὶ τοῦτο ἔνι κεκωλυμένον παρὰ τῶν νόμων, καὶ ὁ τοῦτο ποιήσας καὶ ἐνταῦθα οὐκ εὐοδοῦται, καὶ ἀπελθὼν ἐκεὶ κολάζεται, ὡς καταφρονητὴς τῶν θείων. (Вопросо-ответ 36. Ответы Иоасафа Эфесского).
Это (опирать крышу дома на стену храма. – А. А. ) запрещено законами, и если кто-либо это совершил, то он и здесь не преуспевает, и там после смерти наказывается как презритель божественного.
…ὡς λέγουσί τινες, ὅτι αὕτη ἀπολελυμένη ἐστί (Вопрос 5. Ответы Никиты Ираклийского).
…как говорят некоторые, что она же освобождена (от разбирательств и наказания. – А. А. ).
В приведенных отрывках формы пассивного перфекта указывают на результативность в настоящем. В первом примере сказуемые εὐοδοῦται и κολάζεται поддерживают эту темпоральную близость с ἔνι κεκωλυμένον, а использование аористных причастий говорит о том, что Иоасаф Эфесский понимает разницу между аористом и перфектом. Во втором примере, в сущности, ситуация та же: действия ἀπολελυμένη ἐστί и λέγουσι с точки зрения момента времени очень близки. Эти два частных примера из Никиты Ираклийского и Иоасафа Эфесского указывают, что понимание разницы между классическим перфектом и аористом фрагментарно еще существует. Однако они представляют скорее исключение, чем какую-то закономерность, что подтверждается результатами исследования К. Бентейна [7: 256–263].
В целом можно говорить о том, что система греческих времен в наших памятниках ориентирована на классическую древнегреческую: используются все времена глагола, которые были известны в классический период. В пользу этого могут свидетельствовать факты (пусть и немногочисленные) употребления плюсквамперфекта для обозначения предшествующего действия, что говорит о тяготении авторов к античной традиции:
Δέσποτά μου ἅγιε, κόρη τις ἀνελάβετο ἄνδρα νομίμῳ γάμῳ, ἐφ’ ᾧ καὶ εὐχὴ μνηστείας ἐδόθη καὶ ἱερολογία ἐγεγόνει (3. Ἐρώτησις Ответы Никиты Ираклийского). Святой мой владыка, одна девушка сочеталась с мужем законным браком, над которым и молитвы обручения были произнесены, и объяснение священного смысла (обручения или таинства брака. – А. А. )9 имело место.
Наиболее интересным представляется случай употребления в ответах Нила Родосского аналитического плюсквамперфекта, когда к вспомогательному глаголу ἔχω в impf. (εἶχον) примыкает глагол в aor. con. act.:
Ὁ δὲ θεῖος ἱεράρχης κὺρ Νεῖλος ἐκώλυσε τὸν ἱερέα ἐκεῖνον μῆνας ἓξ καὶ δ’ φλωρία ἐλεημοσύνην· ἔλεγεν αὐτῷ· πότε πρoηγιάσθη ἐκεῖνος ὁ ἄρτος, καὶ ἔλεγες “Τὰ προηγιασμένα Ἅγια τοῖς ἁγίοις”; εἰ δὲ πολλάκις εἶχε τὸν λειτουργήσῃ αὐτὸν σαββάτῳ ἢ κυριακῇ, χωρὶς προηγιασμένης, μετὰ τὴν τελείωσιν τῆς λειτουργίας, ὀλιγώτερον ἐστὶν τὸ κωλύον μόνον διὰ τὴν ἀπροσεξίαν. (Ответ 20. Ответы Нила Родосского).
Божественный же иерарх кир Нил запретил того священника в служении на шесть месяцев и (оштрафовал. – А. А.) на четыре флорина для принесе- ния милостыни, и говорил ему: «когда тот хлеб был преждеосвящен, и говорил ли ты “Преждеосвящен-ная Святая святым”?». Если же он часто его (хлеб. – А. А.) литургисал в субботу или в воскресение, без предварительного освящения, по окончании литургии, то запрещение это лишь из-за невнимательности является незначительным.
В настоящем ответе есть временная противопоставленность форм аориста и имперфекта (ἐκώλυσε и ἔλεγεν), с одной стороны, а с другой – конструкции εἶχε λειτουργήσῃ, которая подчеркивает предшествование события, описанного во втором предложении ответа. Конструкция практически служит прототипом новогреческого плюсквамперфекта (ср.: глаг. έχω в аористе – είχα + основа аориста смыслового глагола без приставки ε и с окончанием -ει, например: εί χ α ακούσει). Мы полагаем, что в этом случае имеет место влияние разговорного языка. Отдельно хочется обратить внимание на то, что в этом же фрагменте обнаруживается редкая синтаксическая особенность: характерный для балканских языков случай местоименного повтора – антиципация местоименного дополнения: εἰ δὲ πολλάκις εἶχε τὸν λειτουργήσῃ αὐτὸν σαββάτῳ ἢ κυριακῇ. Заметим, что в новогреческом языке местоименный повтор дополнения принято считать разговорной чертой.
Если следовать теории уровней стиля, которую нередко применяют в современных византийских исследованиях для классификации византийских текстов10, то на ее основании (при всей условности и схематичности самой теории [22: 528]) следовало бы отнести эти памятники если не к высокому уровню, то, по крайней мере, к промежуточному – между высоким и средним (что-то наподобие upper-middle), поскольку в текстах встречаются признаки обоих.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование частотности и распределения форм перфекта показало, что даже в текстах одного языкового уровня, жанра и стиля существуют качественные и количественные различия в употреблении перфектных форм. В одних текстах (как вопросоответы Никиты Ираклийского, Николая Грамматика, Никифора Хартофилакса, Луки Хриcоверга, Иоасафа Эфесскго) среднее число перфектных форм находится в диапазоне ~8–11 на 1000 слов, в остальных текстах этот показатель меньше в два или даже три раза. Статистические расчеты показывают, что в исследуемых текстах формы перфекта в основном представлены пассивными причастиями, а формы конъюнктива, оптатива и императива авторами не используются. Синтетический перфект функционирует в наших текстах как аорист, что позволяет говорить об их семантической взаимозаменяемости. В то же время аналитический перфект (εἰμί + part. perf.) фрагментарно сохраняет идею результативности действия и в наших текстах является доминирующим перифразом. Нами выявлена также аналитическая конструкция, семантически соответствующая древнегреческому плюсквамперфекту: εἶχον + aor. con. act. Модель образования этой конструкции, по нашему мнению, является прототипом новогреческого плюсквамперфекта.
Список литературы Морфология и семантика перфектных форм в византийской канонико-правовой вопросоответной литературе
- Анашкин А. В. Проблемы жанра вопросоответной литературы в контексте церковно-канонической письменности поздневизантийского периода // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2014. Вып. 4 (39). С. 7–15. DOI: 10.15382/sturIII201439.7-15
- Анашкин А. В. Эпистолярные «следы» в византий ских церковных канонико-правовых эротапокризах XII в. (на материале канонических ответов митрополита Никиты Ираклий ского) // Вестник Костромского государственного университета. 2017. Т. 23, № 2. С. 56–59.
- Архангельский Т. А., Панов В. А. Аспект в греческом языке: проблемные зоны и типология // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2012. Т. 8, № 2. С. 122–148.
- Фокков Н. Ф. К синтаксису греческого новозаветного языка и византий ского. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 320 с.
- Aerts W. J. Periphrastica. An investigation into the use of εἶ ναι and ἔ χειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up to the present day: Diss. Amsterdam, 1965. 216 p.
- Bentein K. Adjectival periphrasis in Ancient Greek: The categorial status of the participle // Acta Classica. 2013. Vol. 56. P. 1–28.
- Bentein K. Perfect periphrases in post-classical and early Byzantine Greek: An ecological-evolutionary account // Journal of Greek Linguistics. 2012. Vol. 12 (2). P. 205–275. DOI: 10.1163/15699846-00000002
- Bentein K. Verbal periphrasis in Ancient Greek. A state of the art // Revue belge de Philologie et d’Histoire. 2012. Vol. 90 (1). P. 5–56. DOI: 10.3406/rbph.2012.8388
- B r o w n i n g R. Medieval and modern Greek (3rd reprinted edition). Cambridge: Cambridge University Press; New edition, 1983 (reprinted 1989, 1985).
- Dörrie H. , Dörries H. Erotapokriseis // Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 6. Stuttgart, 1966. S. 342–370.
- Ermilov P. Towards a classifi cation of sources in Byzantine question-and-answer literature // Theologica minora. The minor genres of Byzantine theological literature / Ed. by A. Rigo, P. Ermilov, M. Trizio (SBHC 8). Turnhout, 2013. P. 110–125. DOI: 10.1484/M.SBHC-EB.1.101921
- Hinterberger M. The synthetic perfect in Byzantine literature // The language of Byzantine learned literature / Ed. by M. Hinterberger. Turnhout, 2014 (SBHC 9). P. 176–204. DOI: 10.1484/M.SBHC-EB.1.102129
- Horrocks G. С. Greek: A history of the language and its speakers. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. 2nd ed. 525 p.
- Janssen M. С. Perfectly absent: the emergence of the Modern Greek perfect in early Modern Greek // Byzantine and Modern Greek Studies. 2013. Vol. 37 (2). P. 245–260. DOI: 10.1179/0307013113Z.00000000027
- Kavčič J. The decline of the aorist infi nitive in Ancient Greek declarative infi nitive clauses // Journal of Greek Linguistics. 2016. Vol. 16 (2). P. 266–311. DOI: 10.1163/15699846-01602004
- McKay K. L. On the perfect and other aspects in New Testament Greek // Novum Testamentum. 1981. Vol. 23. Fasc. 4. P. 289–329. DOI: 10.2307/1560768
- Papadoyannakis Y. Instruction by question and answer: The case of late antique and Byzantine erotapokriseis // Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism, didactism, classicism. Hampshire, 2006. P. 91–105. DOI: 10.4324/9781315585864
- Rijksbaron A. The syntax and semantics of the verb in Classical Greek: An introduction. Chicago; London, 2002. 2nd ed. 228 p.
- ŠevčenkoI. Levels of style in Byzantine prose // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1981. Vol. 31 (1). P. 289—312.
- Sicking C. M. J., Stork P. The synthetic perfect in Classical Greek // Two studies in the semantics of the verb in Classical Greek. Leiden; New York; Cologne, 1996. P. 119–298. DOI: 10.1163/9789004329867_010
- Trapp E. Review: Aerts W. J. Periphrastica. An investigation into the use of εἶ ναι and ἔ χειν as auxiliaries or pseudo-auxiliaries in Greek from Homer up to the present day. Diss. Amsterdam, Hakkert 1965. 4 Bl., 216, 10 S. // Byzantinische Zeitschrift. 1967. Vol. 60 (1). P. 92–94. DOI: 10.1515/byzs.1967.60.1.86
- Wahlgren S. Byzantine literature and the classical past // A companion to the Ancient Greek language / Ed. by E. J. Bakker. Wiley-Blackwell, 2010. P. 527–538. DOI: 10.1002/9781444317398.ch35