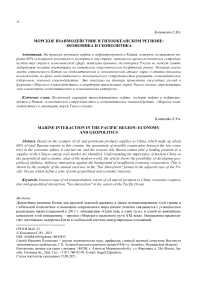Морское взаимодействие в Тихоокеанском регионе: экономика и геополитика
Автор: Козьменко Сергей Юрьевич
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы
Статья в выпуске: 5 (131), 2021 года.
Бесплатный доступ
На примере поставок нефти и нефтепродуктов в Китай, которые составляют порядка 60% суммарного российского экспорта в эту страну, выполнена оценка возможного сотрудничества двух стран в экономической сфере, выявлены причины, по которым Россия не может занять лидирующие позиции поставщика на китайском энергетическом (нефтяном) рынке. Понимая значимость современного Китая на геополитическом и экономическом атласе мира, в статье показана возможность на фоне недостаточного экономического сотрудничества развивать геополитическое (оборонное, военное) взаимодействие. Это показано на примере проведения ежегодных учений в формате «Морского взаимодействия» в акватории прилежащих морей Тихого океана, определяющих зону совместных геополитических и экономических интересов.
Восточный маршрут транспортировки нефти, экспорт нефти и нефтепродуктов в китай, экономическое сотрудничество и геополитическое взаимодействие,
Короткий адрес: https://sciup.org/148323857
IDR: 148323857 | DOI: 10.6084/m9.figshare.16943815
Текст научной статьи Морское взаимодействие в Тихоокеанском регионе: экономика и геополитика
Дальнейшее развитие Китая, как крупной морской державы, а также позиционирование этой страны в глобальной геополитике и экономике современного мира вполне логично связывается с успешностью реализации провозглашенной в 2013 г. инициативы «Один пояс и один путь» и одной из важнейших компонент этой инициативы – проекта «Морского шелкового пути XXI века». Инициатива предполагает достижение лидерства Китая в глобальной системе международных отношений.
ГРНТИ 06.61.33
DOI 10.6084/m9.figshare.16943815
Статья поступила в редакцию 15.09.2021.
Столь грандиозная цель требует не менее масштабного ресурсного обеспечения – и здесь основной задачей является ритмичная и безопасная поставка в Китай нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти в Китае невелики и составляют (2020 г.) 3,5 млрд т. Потребление нефти в стране стремительно возрастает: с 556 до 712 млн т. в 2014 и 2020 гг., соответственно [1]. Собственная добыча нефти в этот период сократилась на 20 млн т. с 215 до 195 млн т [там же].
Практически вдвое, на 80%, за шесть лет вырос импорт сырой нефти (с 309,2 [2] до 557,2 [1] млн т) и нефтепродуктов – почти на 30%, с 63,7 [2] млн т в 2014 г. до 81,9 – в 2020 г. Таким образом, в 2020 г. потребление нефти и нефтепродуктов составило порядка 760 млн т при собственной добыче в 195 млн т (около 26%). Импорт нефти и нефтепродуктов составил 640 млн т или более 84% потребления. Более 73% импорта сырой нефти (470 млн т) обеспечивается морской транспортировкой, преимущественно (372,1 млн т [1]) по Южному Шелковому пути через Ормузский пролив, Индийский океан и Малаккский пролив. Импорт трубопроводной нефти и нефтепродуктов из России и стран СНГ составляет 86,4 и 6,3 млн т, соответственно.
Транспортировка такого количества нефти по одному маршруту, Малаккским проливом, имеющим минимальную ширину в 2,5 км (ширина канала Филипс у побережья Сингапура, самое узкое место морских коммуникаций транспортировки нефти) представляет угрозу национальной безопасности Китая в случае возникновения даже локального конфликта с США. Поэтому Китай наращивает собственные военно-морские силы (ВМС) в этом регионе, но, ввиду явного качественного и количественного превосходства ВМС США и доминирования американского флота на Тихом океане, все же не может гарантировать вполне безопасной транспортировки нефти этим маршрутом.
Проблемы поставок нефти в КНР из РФ
В рассмотренных выше условиях надежность поставок нефти может быть гарантирована использованием сухопутных коммуникаций, надежно защищенных от ударов с моря. К таким сравнительно безопасным коммуникациям относится нефтепровод ESPO («Восточная Сибирь –Тихий океан») по которому сырая нефть (порядка 67,0 млн т в 2021 г.) поставляется в Китай по отводу Сковородино–Махэ и через порт Козьмино (27,0 млн т), суммарная пропускная способность ESPO составляет 80,0 млн т. Кроме того, нефть поставляется по нефтепроводу «Граница РФ –Казахстан–КНР» (10 млн т), а также морским (через акваторию российских морей) и железнодорожным транспортом (порядка 20 млн т). Всего это составляет более 15% китайского нефтяного импорта.
Китай является вторым по значимости потребителем российской нефти, первенство уверенно остается за Европой (138,2 млн т в 2020 г.), несмотря на то, что население Китая превышает европейское практически в два раза – порядка 1400 и 750 млн чел. на 1 января 2021 г., соответственно. Для России значимы оба рынка – и растущий китайский, и устоявшийся европейский с примерно равными объемами импорта – 640,0 и 623,0 млн т.
Наращивание добычи нефти для увеличения экспорта в Китай даже до уровня 100 млн т в год без сокращения поставок в Европу сталкивается с дефицитом добычных мощностей традиционных месторождений Западной и Восточной Сибири, а также Республики Саха (Якутия). Поставляемая в Европу (по нефтепроводу «Дружба» и «Балтийской трубопроводной системе 1 и 2») нефть марки Urals является смесью двух нефтей – тяжелой высокосернистой нефти Поволжья и Урала и западносибирской нефти Siberian Light. Нефть «ESPO» состоит из той же Siberian Light и нефти месторождений Восточной Сибири, включая Ванкорский кластер, и Республики Саха (Якутия).
Здесь следует подчеркнуть, что добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), по существу, вышла на максимально возможный уровень ввиду выработанности основных месторождений региона – Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха (Якутия) [3, 4]. Это привело к тому, что нефтяной рынок перешел в состояние устойчивого дефицита. Это значит, что повышение цен автоматически не приводит к повышению предложения, а снижение цены – к увеличению спроса. Поэтому проблема заключается не в ограниченности нефтяных запасов, а в отсутствии рентабельной нефти, которая способна поддерживать конкурентоспособность страны на мировом энергетическом рынке.
Сейчас добыча нефти становится все более затратной в связи с трудоемкостью процесса и расположением месторождений в отдаленных регионах с суровыми климатическими условиями [5, с. 138-142]. Поэтому в пределах актуальных горизонтов планирования [6, с. 35, 50] прогнозируется плавный «неиз- бежный спад добычи из традиционных месторождений» от базового уровня 2018 г. (567,9 млн т) до 490,0–555,0 в 2035 г. Реально уровень добычи нефти в России составляет (2020 г.) 524,4 млн т.
Выработанность традиционных месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции предопределяет развитие в дальнейшем добычи нефти и транспортной инфраструктуры в отдаленных регионах Арктики. Однако ввиду отсутствия полностью отработанных технологий добычи нефти на глубинах свыше 20-50 м в сложных условиях воздействия ледовых полей и средней длительности разработки арктических месторождений континентального шельфа от момента открытия до начала добычи примерно в 21 год уникальный потенциал Арктики пока (как минимум до 2045 г.) практически недосягаем.
В перспективе в пределах актуальных горизонтов планирования (до 2035 г.) объем поставок нефти в Китай может быть увеличен за счет введения в эксплуатацию первой очереди проекта «Восток Ойл» (50 млн т в год). Этот проект связывает месторождения Ванкорского кластера, нефть которого (порядка 25 млн т в год) сейчас ориентирована на нефтепровод ESPO и поставляется в Китай, с открытым в 130 км юго-западнее порта Дудинки Пайяхтским месторождением. Весь проект находится в пределах арктических районов (Туруханского и Таймырского Долгано–Ненецкого) Красноярского края. Единым пунктом отгрузки нефти по проекту «Восток Ойл», на который будет переориентированы и 25 млн т Ванкорского кластера, станет терминал в районе п. Диксон.
Таким образом, увеличение экспорта нефти в Китай при введении в эксплуатацию первой очереди проекта «Восток Ойл» может составить не более 25 млн т в год. Острая нехватка добычных мощностей, а также ограничение мощности нефтепровода ESPO уровнем 80 млн т и порта Козьмино (до 30 млн т) являются существенными препятствиями для наращивания экспорта нефти в Китай. При этом сырая нефть и нефтепродукты являются основной статьей экспорта России в Китай с долей порядка 60%, с июля 2020 по июнь 2021 гг. это составило $31,7 млрд.
Экономическое сотрудничество двух стран в этой сфере зашло в тупик: в Китае востребована российская нефть, но Россия не может предоставить желаемых объемов. Остальные статьи, кроме закрытой (оборонной), российского экспорта в Китай несущественны. Следовательно, уровень экономической конъюнктуры российской нефти на китайском рынке весьма незначителен. Проблема модернизации морских коммуникаций и средств транспортировки энергетических ресурсов актуальна уже более десяти лет [7].
Перспективы развития экономического и военно-политического сотрудничества КНР и РФ
Линия российско-китайского взаимодействия может сформироваться при согласовании экономической и оборонной деятельности двух стран на море, в акватории пяти прилежащих к территории России и Китая морей Тихого океана – Охотского, Японского, Желтого, Восточно-Китайского и ЮжноКитайского – составляющих зону совместных национальных интересов.
Китай обладает практически самым крупным в мире стратегическим резервом нефти. Базы хранения нефти размещены (насколько это возможно с позиций военной безопасности) ближе к китайско-российской границе в провинциях Чжецзян (население 64,6 млн чел.) на побережье ВосточноКитайского моря и двух северных (Шаньдун и Ляонин) на побережье Желтого моря с населением порядка 40,0–42,0 млн чел. каждая. Это по китайским понятиям малонаселенные провинции.
Суммарный объем стратегического резерва составляет порядка 80 млн т, в том числе около 80% – это государственный резерв и порядка 20% – коммерческий. Такой резерв обеспечивает 90 суток национального потребления нефти. Прибрежные нефтяные базы стратегического резерва отдалены от конфликтного района Южно-Китайского моря, но все же находятся в зоне досягаемости крылатых ракет, размещенных на о. Тайвань [8], а также на японских островах Рюкю, окаймляющих ВосточноКитайское море.
Китай определяет свою стратегическую сферу влияния в границах трех прилежащих морей – Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского, то есть в пределах района, ограниченного с юга Малайским полуостровом, а с севера – простирающегося по понятным причинам выше, в акваторию прилежащих российских Охотского и Японского морей. Группа архипелагов от полуострова Камчатка до Малайского полуострова, включая спорные Парасельские острова и архипелаг Спартли, ограничивающие эти моря, формируют первую стратегическую преграду для проникновения американских авианосных ударных групп (АУГ) к побережью Китая, в том числе и в зону атаки на стратегический нефтяной резерв.
Возможная оборона районов хранения нефти в случае возникновения террористической или иной угрозы является одной из скрытых задач российско-китайского морского взаимодействия. Привлечение России, как мировой ядерной державы, имеет не столько военное, сколько геополитическое значение, которое состоит в совместном обеспечении безопасности в акватории пяти Тихоокеанских морей, ограниченных с востока естественным барьером островов, которые определяют границы зоны национальных интересов России и Китая.
Для отработки совместных действий, направленных на защиту национальных интересов, Россия и Китай развивают сотрудничество в военной сфере. «Морское взаимодействие» утвердилось как формат учений Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в процессе отработки совместных действий в зонах национальных интересов на море двух стран в течение восьми лет с 2012 по 2019 гг. Пандемия COVID-19 временно в 2020 г. прервала сложившуюся традицию ежегодного проведения этого мероприятия.
Впервые учения в таком формате состоялись в апреле 2012 г. в акватории Желтого моря в операционной зоне деятельности Северного флота КНР. При определенном допуске и соответствующей информационной поддержке СМИ это учение может быть квалифицировано как отработка модели поддержки сил ВМС Китая кораблями и судами Тихоокеанского флота (ТОФ) России в целях предотвращения вероятной атаки на китайский стратегический резерв, размещенный вблизи побережья Желтого моря, силами авианосной группы вероятного противника.
Кроме обычных задач конвоирования судов и взаимодействия на морских коммуникациях при противодействии терроризму и пиратству, в этом учении показательно отрабатывались действия совместной АУГ по прикрытию собственных китайских авианосцев. Первый китайский авианосец Китая «Ляонин» – в прошлом советский (российский, украинский) ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) «Варяг» (при закладке – «Рига») проекта 1143.6 был куплен Китаем в 1998 г. По окончании достройки и модернизации в 2012 г. после учений «Морское взаимодействие – 2012» он вошел в состав ВМС КНР [9, с. 41].
Следующее учение, июль 2013 г., проводилось в операционной зоне Тихоокеанского флота России в заливе Петра Великого. В дальнейшем учения проводились поочередно в акватории каждой стороны. Следует отметить [9, с. 42], что учения «Морское взаимодействие 2012 и 2013» проводились в период обострения территориального спора между Китаем и Японией за острова Сенкаку в ВосточноКитайском море, поэтому переход китайских кораблей по легенде учений в Охотское море вслед за отрядом кораблей ТОФ был оценен японцами как отработка варианта усиления сил ТОФ китайскими кораблями для действий в районе Курильских островов.
Учения 2014 г. проводились с 20 по 26 мая в акватории Восточно-Китайского моря [9, с. 42-43]. В них участвовали две китайские дизельные подводные лодки проекта 636.3М и 877 российской постройки. Надо сказать, что в тематику учений ежегодно включаются эпизоды по конвоированию кораблей и судов, досмотру и сопровождению подозрительных морских объектов, поскольку еще с 2009 г. обе стороны осуществляют боевое дежурство в Индийском океане, а в начале 2014 г. синхронно конвоировали вывоз из Сирии химического оружия [9, с. 42-43]. К 2014 г. эскортная деятельность была существенно дополнена боевой составляющей, что значительно расширило поле морского взаимодействия.
В 2015 г. «Морское взаимодействие» проводилось в два этапа – в операционной зоне ТОФ России в заливе Петра Великого, 20-28 августа, а также на европейском театре, что свидетельствует о расширении морского пространства российско-китайского взаимодействия на море и подтверждает готовность Китая защищать свои национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом году была отработана высадка совместного воздушно-морского десанта под прикрытием сил армии, авиации и флота.
Очередное морское учение проводилось в сентябре 2016 г. в акватории Южно-Китайского моря у побережья китайской провинции Гуандун с основной задачей развития взаимодействия флотов при противодействии вызовам и угрозам с морских и океанских направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом были отработаны различные варианты высадки воздушно-морского десанта (на о. Дашудао) при совместной воздушной и морской поддержке.
В два этапа, как и в 2015 г., проходило «Морское взаимодействие» в июле и сентябре 2017 г. – в акватории Балтийского и Японского морей, соответственно. Темой второго, тихоокеанского, этапа стало обеспечение безопасности экономической морской деятельности на региональном уровне. Район учений общей протяженностью до 570 миль включал девять районов акватории Японского и южной части Охотского морей.
В 2018 г. и 2019 г. совместные морские учения проводились в акватории Желтого моря вблизи китайского порта Циндао. «Морское взаимодействие-2019» стало одним из самых крупных морских учений этого формата с участием 13 кораблей основных боевых классов, двух подводных лодок и 10 летательных аппаратов [10, с. 35]. В целом, следует подчеркнуть, что проведение серии учений «Морское взаимодействие» повышает оперативную совместимость флотов двух стран.
В 2021 г. в «Морское взаимодействие» включился и Иран. В конце 2021 г. – начале 2022 г. в Персидском заливе планируются совместные с Ираном российско-китайские маневры «Пояс морской безопасности». Эти учения пока не охватывают акватории морей Северного Ледовитого океана, то есть трассы Северного морского пути (СМП) или (в китайской версии) Полярного шелкового пути, в этих акваториях российско-китайское взаимодействие было бы полезно при проведении совместных учений, например, в сфере мониторинга безопасности окружающей среды [11].
При этом Россия и Китай ценят стратегическую самостоятельность и не хотят брать на себя военные обязательства там, где у них нет общих интересов. Китай не хочет вмешиваться в ситуацию вокруг Крыма, а Россия – в ситуацию с Тайванем. Вполне вероятно, что российско-китайские отношения будут развиваться и дальше, пока общность интересов преобладает над спорными моментами.
Морская активность Китая
Обеспечение ритмичных импортных поставок нефти и газа с использованием коммуникаций Индийского и Тихого океанов является важнейшей стратегической задачей поддержания национальной безопасности Китая на должном уровне. Это предполагает не только защиту побережья трех китайских морей, что частично может быть решено с использованием модели «Морского взаимодействия», но и обеспечение безопасности мореплавания нефтяных и газовых танкеров в открытом океане.
Используя атрибутику морской державы, Китай наращивает военно-морское присутствие в акватории Мирового океана по стратегическим направлениям «Морского Шелкового пути XXI века». Для этого Китай, применяя стратегию «бесшумного проникновения», проникает и закрепляется в определенных зонах прибрежных стран с целью строительства там портов, военно-морских баз и пунктов базирования кораблей и судов ВМС КНР для обеспечения мореплавания собственного флота. Это огромная и масштабная деятельность.
Здесь следует подчеркнуть особенность китайской парадигмы построения и обеспечения Шелковых путей. Парадигма, стратегическая целевая установка, в общем виде такова: национальная безопасность Китая обеспечивается исключительно китайцами, например, в системе морских коммуникаций транспортировки нефти в Китай заняты китайские танкеры с китайскими экипажами, причем эти танкеры бункеруются в китайских портах и охраняются ВМС Китая. При этом на всех этапах создается в той или иной степени разветвленная китайская система населенных мест, реализуя такую геополитическую максиму – «китайцы приходят, делают свою работу и остаются» в противовес принятой в российском (и советском) обществе – «русские приходят, делают свою работу и уходят».
Понятно, что такая конструкция достижима лишь теоретически, и Китаю приходится использовать инфраструктуру других стран для решения собственных логистических задач. Если первый корабль ВМС КНР покинул прибрежные воды только в 1976 г., то сегодня военно-морской флаг Китая демонстрируется во многих акваториях Мирового океана. Например, активность Китая в Арктике обусловлена не столько необходимостью поставки энергоресурсов, сколько возможностью получить доступ к использованию Северного морского пути – перспективной магистрали для транспортировки товаров в Европу.
Усиление влияния КНР в Арктике достигается за счет участия в крупных инфраструктурных проектах, например, Белкомур или «Ямал СПГ», который функционирует с декабря 2017 г. Участниками этого проекта являются компании «Новатэк» (50,1%), французская Total – 20% и две китайские компании: China National Petrolium Corporation (CNPC) – 20% и Silk Road Fund Co Ltd – 9,9%.
Следует особо выделить «бесшумное проникновение» и закрепление Китая на спорных территориях в Южно-Китайском море и создание пунктов базирования Вуди на Парасельских островах (спор. КНР, Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань)) и Фаери Кросс на архипелаге Спартли (спор. КНР, Китайская Республика, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней) в целях контроля над морской и воздушной обстановкой по линии маршрутов движения нефтяных и газовых танкеров в акватории Южно-Китайского моря.
С целью организации дублирующих (Малаккскому проливу и Южно-Китайскому морю) коммуникаций Китай проводит политику «бесшумного проникновения» по созданию надежных конкурентных позиций на побережье пограничных с Китаем стран с юга и юго-запада. Для этой цели строятся порты на побережье Пакистана – порт Гвадар, который соединен сухопутным путем с юго-западным китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом, порты Чаупхью и Янгон (Мьянма), которые имеют сухопутное сообщение с южной провинцией Китая, причем порт Чаупхью является отправной точкой проложенных в Китай нефте- и газопроводов. Кроме того, Китай владеет портом Читтагонг (Бангладеш), целевое назначение которого состоит в размещении кораблей и судов, обеспечивающих контейнерные перевозки.
2021 год принес Китаю новые вызовы и угрозы. Это связано, прежде всего, со сменой геополитической направленности администрации США – от «изоляционизма» Д. Трампа («Сделаем Америку вновь великой») до сторонников традиционного для США глобального либерального проекта, смыслом которого является создание однополюсного во главе с США геополитического и экономического атласа современного мира.
Девяностые годы XX века и 2000 годы XXI века стали периодом расцвета глобализации и однополюсного американского центризма. Китай, Россия и некоторые другие страны не смогли «на равных» с США интегрироваться в координаты глобализации. Страны, не обладающие таким мощным, сравнимым с американским, экономическим, как Китай, и военно-политическим, как Россия (в основном в сфере стратегических ядерных сил) потенциалом, почувствовали последствия цветных революций и воздействия американской стратегии «управляемого хаоса».
Краткие выводы
В заключение следует подчеркнуть, что максима геополитического и экономического устройства современного мира очевидна в том, что экономическая и военная мощь государства дополняют и заменяют друг друга в сложной системе международных отношений. Поэтому сегодня наши страны обречены на взаимодействие не столько в сфере экспорта-импорта (о чем сказано выше), хотя и это не исключается, сколько в области военно-экономического сотрудничества, ростки которого зарождаются и развиваются в рамках «Морского взаимодействия» на полях охраны морских коммуникаций транспортировки, в частности, энергетических ресурсов нефти и газа в Китай.
Высокие технологии России в области вооружений и военной техники и масштабы китайского производственного потенциала, способного реализовать эти инновации оборонного характера, способны создать грандиозный синергетический эффект. При этом, морское взаимодействие двух стран в таком контексте призвано показать на мировом уровне согласование совместных действий по обеспечению безопасности экономического развития, главным образом, Китая в тихоокеанском регионе.
Проведение ежегодных учений в формате «Морского взаимодействия» в акватории пяти морей от Камчатки до Малаккского пролива свидетельствует о трансформации этого морского региона в зону совместных стратегических интересов России и Китая. Именно здесь развивается база экономического сотрудничества двух стран на море посредством формирования грузопотоков «Полярного шелкового пути» в стратегическом направлении «Морского Шелкового пути XXI века» глобальной инициативы «Один пояс и один путь». Это будет способствовать дальнейшему развитию прибрежнопортовой инфраструктуры российской Арктики и формированию крупных транспортных узлов в акватории и на побережье, в первую очередь, Баренцева и Белого морей.
Благодарности
Работа выполнена в рамках темы № 0226-2019-0028 ИЭП «Взаимодействие глобальных, национальных и региональных факторов в экономическом развитии Севера и Арктической зоны Российской Федерации» по государственному заданию ФИЦ КНЦ РАН.
Список литературы Морское взаимодействие в Тихоокеанском регионе: экономика и геополитика
- BP Statistical Review of World Energy 2021. 62 р.
- BP Statistical Review of World Energy 2015. 46 р.
- Филимонова И.В. Нефтегазовый комплекс в социально-экономическом развитии регионов Восточной Сибири // Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века. Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. 2018. С. 259-267.
- SharfI.V., Borzenkova D.N., Grinkevich L.S. Tax incentives as the tool for stimulating hard to recover oil reserves development // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2015. Р. 12-79.
- Козьменко А.С. Отечественный и зарубежный опыт освоения арктических ресурсов нефти. Теория и практика // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 2 (128). С. 138-142.
- Распоряжение Правительства РФ № 1523-р от 09 июня 2020 г. «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г.».
- Национальные экономические интересы и тенденции развития морских перевозок углеводородных ресурсов в Арктике / Высоцкая Н.А., Евдокимов Г.П., Емельянов М.Д., Ершов А.М. и др. Апатиты: КНЦ РАН, 2009. 163 с.
- Proved oil reserves in China from 1990 to 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.statista. com/statistics/264346/chinese-oil-reserves-since-1990 (дата обращения 23.07.2021).
- Авакянц С.И. Участие сил (войск) Тихоокеанского флота в совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие» // Морской сборник. 2018. № 2. С. 40-48.
- Авакянц С.И. Тихоокеанский флот в годы Великой Отечественной войны, войны с Японией и на современном этапе // Морской сборник. 2020. № 5. С. 26-35.
- Kozmenko S., Fedoseev S., Teslya A. Maritime economics of The Arctic: legal regulation of environmental monitoring // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Part 3. History and Modernity. 2018. Р. 012009.