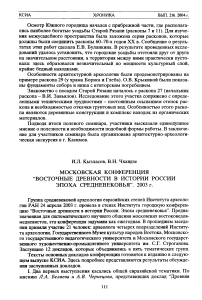Московская конференция «Восточные древности в истории России. Эпоха средневековья». 2003 г.
Автор: И.Л. Кызласов, В.Н. Чхаидзе
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Хроника
Статья в выпуске: 216, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/143183903
IDR: 143183903
Текст статьи Московская конференция «Восточные древности в истории России. Эпоха средневековья». 2003 г.
КСИА
ХРОНИКА
ВЫП. 216. 2004 г.
Осмотр Южного городища начался с прибрежной части, где располагались наиболее богатые усадьбы Старой Рязани (раскопы 7 и 11). Для изучения межусадебного пространства была заложена серия раскопов, которые должны были соединить раскопы 60-70-х годов XX в. Сообщение о результатах этих работ сделала Е.В. Буланкина. В результате проведенных исследований удалось установить, что городские усадьбы отстояли друг от друга на значительном расстоянии, а территория между ними практически пустовала: здесь образовался незначительный по мощности культурный слой, крайне бедный находками.
Особенности архитектурной археологии были продемонстрированы на примере раскопа 29 (у храма Бориса и Глеба). О.В. Крыкиной были показаны фундаменты собора и ниша с ктиторским погребением.
Знакомство с посадом Старой Рязани началось с раскопа 27 (начальник раскопа - В.И. Завьялов). Исследование этого участка сопряжено с определенными техническими трудностями - постоянным осыпанием стенок раскопа и необходимостью откачки грунтовых вод. Особенностью этого раскопа являются деревянные конструкции и комплекс находок из органических материалов.
Подводя итоги полевого семинара, участники высказали единодушное мнение о полезности и необходимости подобной формы работы. В заключение для участников семинара была организована архитектурно-археологическая экскурсия в г. Касимов.
И.Л. Кызласов, В.Н. Чхаидзе
МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ВОСТОЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ”. 2003 г.
Группа средневековой археологии евразийских степей Института археологии РАН 24 апреля 2003 г. провела в стенах Института городскую конференцию “Восточные древности в истории России. Эпоха средневековья”. Предназначенная для систематического научного общения московских востоковедов-медиевистов, эта конференция задумана как ежегодная. В прошедшем заседании приняли участие 21 человек: археологи четырех подразделений Института археологии, Государственного Музея культур народов Востока, Московского государственного педагогического университета и Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Заслушано 12 докладов, которые объединялись в пять тематических групп.
Тексты основных докладов конференции готовятся к изданию в следующем выпуске КСИА. Здесь подробнее представляются результаты обсуждения заслушанных докладов.
I. Два первых выступления касались общей евразийской тематики. По мнению Л.А. Беляева и А.В. Чернецова, представивших доклад “Древняя
Русь и Восток: проблемы и перспективы изучения”, связи с народами Востока предвзято освещалась в историографии, подробнее традиционно исследовались археологические материалы, отражающие взаимодействие с финноугорским, балтийским и скандинавским миром. Но именно взаимодействие с Востоком - важнейший фактор, определявший фундаментальные черты русской культуры и государственности. Саму домонгольскую Русь, отчасти, можно отнести к Востоку. Евразийский характер России явился закономерным историческим итогом тесных многовековых контактов с народами Востока, при котором оборонительные русские рубежи оказываются инструментом наступательного назначения, средством военной экспансии. Особое внимание в докладе уделялось значению монголо-татарского нашествия. Археологические исследования последних лет заставляют отказаться от оценок, учитывающих лишь негативные последствия русско-ордьшских отношений для социально-экономического и политического развития русского государства, в частности, от взгляда на монголов как виновников изоляции Руси от Запада. Не связаны с военным разгромом ХШ в. и многие хозяйственные перемены в стране, в том числе, переход на водораздельное земледелие. Изучая противостояние христианства и ислама в Восточной Европе, следует учесть усиление мусульманского влияния на официальную Русь именно после ее освобождения от Орды. Авторами доклада было подчеркнуто, что дальнейшее изучение данной проблемы требует концентрации внимания на культурных влияниях и специфике трансформаций заимствованных элементов, на сопоставлении конкретных явлений и тенденций в рамках сравниваемых культурно-исторических общностей.
Доклад, отличающийся цельным историческим взглядом, основанным на обзоре множества археологических источников, вызвал одобрение собравшихся. Обсуждая его, Т.И. Макарова дополнила анализ влияния восточной культуры на Русь широкой сравнительной картиной отличия Востока и Запада в области ювелирного искусства, начиная с IV в. н.э. Она отметила, что все престижные техники ювелирного дела на Руси (перегородчатая эмаль, чернь, зернь) отражают влияние Востока. Благодаря Византии, во многом впитавшей достижения предшествующей аристократической культуры Ирана и Двуречья, Русь оказалась связанной с древнейшими художественными символами законности и древности власти, представленными в официальном мужском и женском наряде. ИЛ. Кызласов отметил правомерность и многочисленность обозначенных авторами исследовательских направлений, требующих дальнейшего тщательного и неспешного изучения. Одновременно он критиковал тезис о предвзятости русской науки в отношении Востока, поскольку в России было великое, классическое востоковедение, лишавшее отечественную науку в целом всякой тенденциозности. Лишь личная источниковедческая ограниченность пишущего способна создать в литературе вопроса то положение, которое справедливо отвергается авторами доклада. В определенной мере это следствие того, что в стране ныне отсутствуют издания типа ЗВО РАО. Выступавшим была особо подчеркнута необходимость не воспринимать Восток как единое пространство, а исследовать отношения Руси с конкретными культурами и обществами восточной части Евразии.
ИЛ. Кызласов в докладе “Евразийское значение аскизской археологической культуры” на многочисленных археологических находках, сделанных от Урала до Карпат, продемонстрировал существование систематических связей южносибирского Древнехакасского государства с домонгольскими державами Восточной Европы. Население Поволжско-Приуральского региона в ХІ-ХП вв. испытало своеобразную моду на аскизские изделия, что привело к массовым подражаниям в оформлении металлических частей сбруи и костюма у волжских болгар, древних марийцев и удмуртов, а также мордвы. Большое количество древнехакасских находок, их связь с городскими и торговыми центрами и путями региона, как и принадлежность к нескольким сменявшим друг друга этапам внутреннего развития этой саяноалтайской культуры с XI до начала ХШ в. указывают на существование в Восточной Европе древнехакасских торговых факторий, имевших непрерывную связь с южносибирской митрополией. Появление на культурном пространстве Восточной Европы новой, богатой рудными залежами мировой державы не случайно совпадает с начавшимся здесь серебряным кризисом. Евразийское значение культуры Древнехакасского государства в трагическое монгольское время выразилось в том, что она оказалась одним из элементов формирования государственного стиля империи Чингизидов (в IX-X вв. подобное произошло с официальным стилем киданьской империи Ляо, сформировавшимся под воздействием тюхтятской культуры древних хакасов). Расширение Московского государства на восток во многом шло по раннесредневековому торговому пути, проторенному древними хакасами в Европу, и среди прочего объясняется знакомством Руси с богатствами Сибири за пять веков до Ермака и за два века до Орды.
Вопросы к докладчику и обсуждение темы были главным образом направлены на уяснение отличительных особенностей аскизских древностей и библиографии проблемы. Часть выступлений основывалась лишь на обыденном сомнении в возможности самостоятельного прихода раннесредневековых сибирских караванов на рынки Восточной Европы. Автор напомнил о значении археологической науки, независимыми материальными свидетельствами дополняющей скудные данные письменных источников, и призвал коллег пользоваться консультациями сибиреведов и изучать южносибирские древности, без знания которых ныне невозможно уже полноценное изучение раннего средневековья европейской части Отечества.
П. Два других доклада посвящались раннесредневековым степным древностям Восточной Европы. С.А. Плетнева, анализируя “Археологические следы социальной экологии на памятниках Хазарского каганата”, интересно поставила задачу полевого изучения особенностей взаимоотношения конкретного человеческого сообщества и окружающей среды. Исследовательницей рассматривались материалы салтово-маяцкой культуры, которые дают основания говорить об особых представлениях средневекового человека об окружающей его природе, далеко выходящих за рамки узкого прагматизма. В выступлении особое звучание получила необходимость учета влияния поселковой гигиены на условия формирования культурного слоя, а также возможное экологическое истолкование отдельных погребений животных и тому подобных явлений культуры.
При обсуждении доклада, вызвавшего большой интерес аудитории, В.С. Флёров отметил принципиальную важность специального изучения многочисленных условий формирования культурного слоя, как и то, что экологический аспект этого процесса обычно не учитывается исследователями.
Предметом выступления У.Ю. Кочкарова стало “Погребение всадника половецкого времени в Краснодарской степи”. Автор проделал внимательный анализ погребального обряда и всех категорий богатейшего сопроводительного инвентаря воина и снаряженного с ним коня, раскопанных А.С. Скрипкиным в 1982 г. в кургане 1 Дмитриевского могильника. Все это позволило датировать памятник концом ХП - началом ХШ в. Особое внимание привлекает наличие сложного многочастного доспеха: шлема, кольчуги и трех защитных блях, поручей и поножей.
Ш. Три последующих доклада были посвящены изучению городских материалов домонгольской поры. В докладе З.С. Галиевой “Методы реконструкции разрушенных археологических памятников исторических ландшафтов Средней Азии” на примере Джетыасарского урочища в низовьях Сырдарьи были продемонстрированы результаты многолетней работы по выявлению и историко-культурному истолкованию памятников археологии по данным аэрофотосъемки. Разработанная докладчиком методика имеет общее значение и позволяет не только распознавать изменения природных условий на различных временных этапах, но и атрибутировать археологические памятники на основании их принадлежности к тем или иным историческим природным ландшафтам. Доклад вызвал повышенный интерес участников конференции и побудил ЛЛ. Галкина, подчеркивавшего необходимость использования данных аэро- и космосъемки в каждой археологической экспедиции, продемонстрировать применяемые им самим космоснимки дельты Волги.
Н.А. Кокорина в докладе “Глиняные котлы Волжской Булгарии” познакомила собравшихся с материалами, которые только лишь начинают разрабатываться. Выступившие в обсуждении выразили надежду, что проделанная тщательная сравнительная работа побудит прочих исследователей к обработке подобных единичных находок.
Предметом исследования В.Н. Чхаидзе стали “Производство, назначение и использование средневековых амфор VIII—XIV вв.”. Помимо описания точно локализованных керамических мастерских этого времени, вьшускаю-щих амфоры, было рассмотрено разнообразное назначение амфорной тары и полученные раскопками примеры ее использования, как основного, так и вторичного. Анализ этого наиболее массового средневекового керамического материала, характеризующего развитие, направление и широту торговых связей на Восточно-Европейской равнине, как отметили присутствующие, дал докладчику серьезные основания для выводов. Особый интерес вызвал вопрос о назначении черного смолистого вещества, остающегося внутри сосудов: признак ли это их смоления ради водонепроницаемости или это остатки хранившейся в них нефти?
-
IV. Два выступления раскрывали области влияния культуры Востока на городское ремесло Европы. Н.В. Жилина проанализировала “Особенности восточной филиграни и ее проявление на Руси”. На конкретных примерах
было детально обосновано, что известные на Руси на протяжении IX—XTV вв. изделия с филигранью, связываемые с влиянием Востока или относимые к комплексу русско-восточных ремесленных контактов, орнаментально, типологически и технологически отделяются от русского материала. Подобные изделия не входили в традиционный парадный славяно-русский убор, а являясь предметами роскоши, носились отдельными людьми в связи с конкретными личными обстоятельствами. Конференция отметила положительное значение применения микроскопического анализа для исследования технологии ювелирного дела. Было высказано пожелание расширить область изысканий, захватив иные области художественной металлообработки, поскольку орнамент прямо не связан с технологией изделий.
«’’Восточные” стеклянные бусы на территории Древнерусского государства» получили освещение в докладе А.А. Тодоровой. Опираясь на работы предшественников, докладчица обосновывала поступление части таких бус из мастерских Западной и Северной Европы (включая Ладогу), изготавливавших их из завозившегося ближневосточного сырья. Автор видит причину этой деятельности в стремлении скандинавов получить пушнину. При обсуждении доклада Т.И. Макарова остановилась на изготовлении европейских эмалей на основе привозного ближневосточного сырья. ЛЛ. Галкин, опубликовавший специальную работу в ежемесячнике “Техника молодежи” (2002, № 2), отметил простоту изготовления бус в городах Золотой Орды, где бусы являлись не только украшениями, но и оберегами, о чем свидетельствуют погребения, совершенные по мусульманскому обряду и содержащие бусины.
-
V. В трех докладах анализировались различные материалы ордынского времени. Предметом рассмотрения Н.А. Хана стала “Булгарская торговля пушниной в XIV - начале XV в.”. Автор подчеркнул роль Булгара как транзитно-перевалочного центра Восточной Европы в торговле мехами. Данные арабских источников позволяют проследить разницу цен на основные виды меха, закупавшиеся в Восточной Европе и продававшиеся на рынках Востока. Тем самым устанавливается уровень прибыли булгарских купцов, доставлявших туда пушнину: цены возрастали в 36-40 раз. С конца 70-х годов XIV в. и до похода Тохтамыша в 1382 г. поступление пушнины из Волжской Булгарии в Северное Причерноморье осуществлялось через Москву и регулировалось ею. Отвечая на вопросы, докладчик привел ценовые параметры в отношении торговли тканями, лошадями и рабами.
А.В. Почкал&вым в докладе “Городища Золотоордынского времени в Поволжье: материалы к хронологии” была предпринята попытка уточнения датировок городских памятников на основании нумизматики. Особое значение имеют мелкие медные монеты - массовый нумизматический материал, чутко реагирующий на изменения экономической и политической жизни города. По мнению автора, первая столица Золотой Орды археологически еще не выявлена, но возможно ее связать с Красноярским городищем. При обсуждении доклада М^Д- Полубояринова, С.А. Плетнева и Н.А. Кокорина справедливо указали на недопустимость определения жизни городов лишь по периоду чеканки в них монеты, как и установления датировки памятников только на основании изолированно рассматриваемого нумизматического материала.
Доклад Д.Ф. Мадурова “Постсасанидский стиль в средней полосе России” был посвящен поздним и позднейшим художественным особенностям изобразительного искусства, так или иначе восходящим к мотивам Сасанидского Ирана. Автором прежде всего рассматривались произведения Руси и Волжской Болгарии ХП-ХШ вв. Для их характеристики введено понятие западного постсасанидского стиля. Привлекались и памятники последующего времени, вплоть до традиционной этнографической культуры современных чувашей. При обсуждении доклада З.С. Галиевой и ИЛ. Кызласовым отмечалась неправомерность применения докладчиком понятия “постсасанидский стиль” в отношении изучаемых им материалов. Избранная автором терминология на деле лишает возможности распознания тех реальных культурных импульсов, с которыми связано появление и развитие обсуждавшихся художественных мотивов в искусстве Восточной и Западной Европы.
Следующую конференцию “Восточные древности в истории России. Эпоха средневековья” Группа средневековой археологии евразийских степей ИА РАН планирует провести в апреле 2004 г.
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТДЕЛА АРХЕОЛОГИИ КАМЕННОГО ВЕКА ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
29 июня 2003 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного археолога О.Н. Бадера. Его исследования и открытия без всякого преувеличения составляют славу нашей науки. Естественно, что столь знаменательная дата не могла остаться в стороне от научной жизни его коллег и учеников по археологическому цеху. Отдел археологии каменного века ИА РАН решил не ограничиваться протокольным мероприятием по этому поводу, справедливо рассудив, что лучшим способом отдать долг памяти О.Н. Бадера будет проведение полноценного научного собрания - своеобразной мини-конференции по широкой проблематике, связанной с первобытной археологией. Такое расширенное заседание состоялось 15 мая 2003 г.
В программе были заявлены шесть докладов, которые и были сделаны. Отрадно, что участниками заседания стали не только сотрудники Института археологии, но и наши коллеги из МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственного Исторического музея, Института географии РАН.
Заседание Отдела началось выступлением М.П. Зиминой, посвященным биографии О.Н. Бадера (“О.Н. Бадер: жизненный путь и научная деятель-