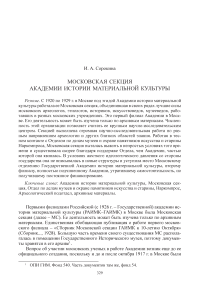Московская секция академии истории материальной культуры
Автор: Сорокина И.А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Материалы конференции "Ученые и идеи: страницы истории археологического знания"(Москва, 2014 г.)
Статья в выпуске: 240, 2015 года.
Бесплатный доступ
С 1920 по 1929 г. в Москве под эгидой Академии истории материальной культуры работала ее Московская секция, объединившая в своих рядах лучшие силы московских археологов, этнологов, историков, искусствоведов, музееведов, работавших в разных московских учреждениях. Это первый филиал Академии в Москве. Его деятельность может быть изучена только по архивным материалам. Численность этой организации позволяет считать ее крупным научно-исследовательским центром. Секцией выполнена огромная научно-исследовательская работа по разным направлениям археологии и других близких областей знания. Работая в тесном контакте с Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса, Московская секция пыталась выжить в непростых условиях того времени и существовала скорее благодаря поддержке Отдела, чем Академии, частью которой она являлась. В условиях жесткого идеологического давления со стороны государства она не вписывалась в новые структуры и уступила место Московскому отделению Государственной Академии истории материальной культуры, второму филиалу, полностью подчиненному Академии, утратившему самостоятельность, но получившему постоянное финансирование.
Академия истории материальной культуры, московская секция, отд. по делам музеев и охране памятников искусства и старины, наркомпрос, археологический подотдел, архивные материалы
Короткий адрес: https://sciup.org/14328220
IDR: 14328220
Текст научной статьи Московская секция академии истории материальной культуры
Первыми филиалами Российской (с 1926 г. – Государственной) академии истории материальной культуры (РАИМК–ГАИМК) в Москве была Московская секция (далее – МС). Ее деятельность может быть изучена только по архивным материалам. Единственная обобщающая публикация о работе первого московского филиала – «Сборник Московской секции ГАИМК к 10-летию Октября» (Сборник..., 1928). Большую часть времени своего существования МС располагалась в помещении Государственного Исторического музея, поэтому документы хранятся в его архиве1 .
Вопрос об участии московских ученых в работе Академии возник еще до ее официального создания, поскольку и до и после октября 1917 г. в Москве были сосредоточены значительные научные силы, в том числе в области археологии. В их числе Московское археологическое общество (МАО) и Антропологический музей Московского университета. Здесь работал антрополог Д. Н. Анучин (1843–1923), явившийся основателем палеоэтнологической школы в Москве. Он был избран председателем МАО после отъезда в эмиграцию в 1919 г. П. С. Уваровой. После его кончины в 1923 г. Общество прекратило свое существование. Причины этого не только отсутствие энергичного лидера, но и перенос основной археологической деятельности в Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины при НКП РСФСР2 в РАИМК.
Еще одним центром развития археологии в Москве был Государственный (до 1917 г. – Российский) Исторический музей. С 1903 по 1929 г. там работал В. А. Городцов (1860–1945). Он же руководил существовавшими в 1920-х гг. кафедрами археологии в 1-м МГУ, потом в МИФЛИ. Ученики Городцова (некоторые еще со времени его преподавательской деятельности в Московском археологическом институте) явились первым поколением археологов в России, получивших профессиональное образование в нашем современном понимании. В ГИМе начали трудовой путь археологи из поколения его учеников: А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов, М. Е. Фосс, Б. Н. Граков, О. А. Кривцова-Гракова и пр.
В 1922 г. по решению Государственного ученого совета (ГУС) Наркомпроса при физико-математическом факультете 1-го МГУ был открыт Институт антропологии. Здесь успешно трудился ученик Д. Н. Анучина палеоэтнолог Б. С. Жуков, а также Б. А. Куфтин и М. С. Воеводский. Эти ученые сыграли огромную роль в развитии полевой археологии довоенного и послевоенного времени.
В 1924 г. решением ГУС при факультете общественных наук 1-го МГУ была образована Ассоциация научно-исследовательских институтов. Первоначально в нее входило 7 институтов, в том числе Научно-исследовательский институт археологии и искусствознания, созданный в 1923 г. Секцией археологии в его структуре руководил В. А. Городцов, с которым работали А. А. Захаров, А. С. Башкиров и др. В аспирантуре при Ассоциации обучались известные в будущем исследователи, работавшие потом в ГИМе, на кафедре археологии МГУ, в МОГАИМК: А. В. Арциховский, С. В. Киселев А. П. Смирнов и др. (Институт…, 2000). В 1926 г. Ассоциация была выделена из 1-го МГУ и переименована в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). В ее состав вошли новые организации, в том числе и ГАИМК.
Помимо Д. Н. Анучина и В. А. Городцова, крупнейшим специалистом, внесшим в то время существенный вклад в развитие археологии, был востоковед Ф. В. Баллод (1882–1947), профессор историко-филологического факультета Саратовского университета. В 1923–1924 гг. Ф. В. Баллод – действительный член московского НИИ археологии и искусствознания и член МС РАИМК.
В Москве динамично развивалась научная среда, рождавшая новые идеи по поводу организации археологической науки после 1917 г., когда старые структуры были разрушены. Вопрос о соперничестве в установлении приоритетов между учреждениями Москвы и Петрограда к тому времени имел давнюю историю (Тихонов, 2008; Сорокина, 2011). Следующий пик противоречий обозначился в процессе формирования РАИМК (1919 г.) и ее московского филиала. Переговоры об этом с представителями МАО и иных учреждений в Москве вел Н. Я. Марр и достиг соглашения, то есть, очевидно, сумел объяснить большей части московской гуманитарной элиты особенности момента и необходимость консолидации.
Официально Московская секция возникла в 1924 г., когда, по определению ее председателя, началось «организованное существование» (Сборник..., 1928. С. 1). Однако она работала и в 1920 г. Положение о ней утверждено Советом РАИМК в марте 1921 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 18. Л. 3). Это отражало стремление московской научной общественности самоорганизоваться в новых политических условиях, сохранив достижения дореволюционного времени. Следует говорить именно о самоорганизации, поскольку, как будет видно ниже, «большая» петроградская РАИМК не очень-то заботилась о формах и способах существования московского «меньшого брата», что чуть не привело к гибели МС. Председателем секции был избран историк-медиевист Д. Н. Егоров3. Заместителем его стал Ю. В. Готье – историк, археолог – еще одна знаковая фигура в научном мире того времени4. Примечательно, что МС возникла не как чисто археологическое учреждение: это было лишь одно из нескольких направлений.
С самого начала устанавливаются контакты секции с Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе5, о чем свидетельствует переписка. Так, в сентябре 1920 г. МУЗО послал в МС на заключение документы по реформе Донского археологического института (Ростов-на Дону), которое секция дала и переправила на утверждение в РАИМК, в Петроград (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 432. Л. 260; ед. хр. 433. Л. 9). В феврале 1921 г. в МС была направлена заявка Самарского общества истории, археологии и этнографии на получение Открытого листа для производства разведок и раскопок по берегам рек Волги и Самары. Речь идет о работах В. В. Гольмстен ( Кузьминых и др ., 2007. С. 19–24). Отдел музеев просит заключения в двухнедельный срок, причем с присутствием при решении заведующего Археологическим подотделом (далее – АПО) В. А. Городцова (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 433. Л. 273). Последнее понятно: В. В. Гольмстен не только его ученица в Московском археологическом институте, но и сами эти работы – часть его плана археологических исследований и раскопок в СССР, разработанного в 1919 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1075. Л. 11–12). Тогда же в МС обсуждалась заявка Переславль-Залесской уездной секции МУЗО на раскопки в Переславском уезде (ОПИ ГИМ. Ф. 54.
Ед. хр. 434. Л. 75). В марте рассматривался вопрос о преобразовании Симбирской архивной комиссии в Симбирское археологическое общество (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 436. Л. 204). Еще в одном отношении от 09.03.1921 МУЗО просит заключения МС о целесообразности открытия в г. Ростове Великом отделения Археологического института (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. 435. Л. 14).
Все эти примеры свидетельствуют о том, что Отдел музеев ожидал от МС экспертной работы по весьма серьезным вопросам. Причем именно от МС, а не от основного учреждения РАИМК в Петрограде. Показательна также интенсивность общения. Впоследствии руководство петроградской РАИМК предъявит некоторые претензии к МУЗО, суть которых в том, что дела в Наркомпросе решаются в обход Академии. Но формально все правильно: Отдел не обходит РАИМК, так как Московская секция – ее часть – должна бы иметь нужные полномочия для принятия решений и привлекается к обсуждению вопросов, входящих в компетенцию РАИМК по Декрету и Уставу6. К тому же МС территориально доступнее, и насущные вопросы могли бы решаться более оперативно. Но в Петрограде, видимо, возникло опасение, что естественным образом все контакты с МУЗО по текущим делам перешли бы в МС, сделав ее самостоятельным учреждением.
Отдел музеев прямо-таки опекает Московскую секцию от внешних натисков. В марте 1921 г. в письме в Хозяйственный отдел НКП МУЗО протестует против вывоза из помещения МС (Малая Никитская, 12) рабочей мебели для передачи в другие учреждения НКП без ведома Отдела (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 436. Л. 187). Как выяснилось, в порыве хозяйственного рвения прихватили еще и личную мебель членов МС (надо полагать, в условиях разрухи использовались все запасы). Правда, впоследствии у МС отобрали это помещение и пытались ее совсем упразднить.
Как же складывались взаимоотношения МС и петроградской «большой» РАИМК? Сложно. В процессе борьбы за создание РАИМК ощущалась острая необходимость в контакте с московскими силами и их поддержке. После того, как острота вопроса спала, возникли проблемы: нужно было делить скудное денежное содержание, выделяемое Наркомпросом. И тут начинаются трения. Фактически секция влачила жалкое существование за недостатком выделяемых от РАИМК средств. Создается впечатление, что интерес к ней со стороны РАИМК полностью потерян, это большая ошибка руководства Академии. В Москве нужно было иметь представительство РАИМК и нужно было не упускать дружественный контакт с московскими коллегами, поскольку вскоре последовало активное наступление на прерогативы РАИМК со стороны АПО по поводу регламентации полевых исследований и Археологической комиссии при ГУС7, разрабатывавшей свои идеи развития археологии. И это не говоря уже об атаке Главполитпросвета на идеологическом фронте против всех достижений культурного строительства первого десятилетия советской власти.
Так или иначе, взаимоотношения складывались трудно, что отражено в протоколах заседаний Совета РАИМК за 1922–1924 гг. В январе 1922 г. обсуждалось письмо от МС от 23.12.1921 с приложением протоколов заседаний Президиума секции и разных ее подразделений и неким заявлением (текст не приложен). Судя по дискуссии, речь шла о расширении штатов c соответствующим финансированием (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 5. Л. 2–4 об.). Тон заявления признан «неакадемическим», и текст отослан обратно в МС без рассмотрения Советом. Однако вряд ли хорошо известные представители научных кругов Москвы писали «неакадемически». Скорее всего, это был вопль отчаяния (см. выше о напоре хозяйственных органов Наркомпроса). О штатах секции в Петрограде решили думать после утверждения Академическим центром НКП всех штатов РАИМК, но в качестве утешительной меры постановили разъяснить, что ни одна из работающих в составе МС комиссий не уничтожена. Возникает вопрос, а почему у московских ученых вообще могло создаться такое впечатление, если секция – часть РАИМК, работающая в штатном режиме? В феврале 1923 г. на Совете был поставлен вопрос о реорганизации структуры РАИМК (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 5. Л. 6–7 об.). К этому времени МС за неимением финансирования фактически прекратила свою деятельность (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. 18. Л. 3), хотя официально расформирована не была.
1924 год стал переломным в развитии московского филиала и сложным для РАИМК. Но именно тогда секция становится полноправным подразделением РАИМК. Причины, как нам представляется, две. В феврале 1923 г. В. А. Город-цов как заведующий АПО разрабатывает проект Центрального археологического бюро при Музейном отделе (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 308), согласно которому ряд направлений, определенных Декретом 1919 г. и Уставом РАИМК, оказывается прерогативой Бюро. Это регламентация полевых исследований, планирование экспедиций и контроль над археологическими учреждениями. Проект реализован не был, но представлял явную угрозу для положения РАИМК. Вторая причина: весной-летом 1924 г. был поставлен вопрос о слиянии МС с НИИ археологии и искусствознания при ФОН 1-го МГУ. Поводом послужила идея о выполнении этими учреждениями одинаковых функций, то есть «параллелизме». Инициатором выступил ГУС, была образована «Комиссия по слиянию», заседание которой состоялось 21 июня 1924 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1070. Л. 2)8. Постановили, что функции совпадают и в Москве нужно только одно учреждение, «объединяющее в себе научно-исследовательскую работу в следующих направлениях: археологии, искусствознания, музееведения, реставрации». Решение абсурдное, потому что на самом деле никакого совпадения не было хотя бы потому, что НИИ ведал образовательным процессом, к которому МС отношения не имела. Стенограммы дискуссии в деле, к сожалению, нет, поэтому нельзя с уверенностью судить о мнениях присутствующих, хотя некоторые выводы сделать можно.
Прежде всего, потрясает четко сформулированная позиция Музейного отдела, отраженная в направленной им в Президиум ГУС «Докладной записке» (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1070. Л. 3–4). В ней отмечено, что Московская секция была создана сразу после учреждения РАИМК, но не обладала всеми правами Академии (как и финансированием. – И. С .). Она фактически перестала существовать в 1922 г. При этом «Отдел по делам музеев все время испытывал чрезвычайные затруднения в своих работах в силу своей физической оторванности от Академии и отсутствия в Москве ученого учреждения, компетентного в круге вопросов, подлежащих ведению Отдела. В частности, особенно было затруднительно разрешение вопросов, связанных с археологическими раскопками, т. к. на деле обнаруживалась полная невозможность согласовать работу Музейного отдела, выдающего открытые листы на право производства раскопок, и работ АИМК, дающей свои заключения о раскопках на основании права, представленного ей основным Декретом, положившим начало ее существованию. Монопольное право, предоставленное Академии, передавало все вопросы, связанные с раскопками, исключительно в компетенцию ленинградских ученых, что вызвало неоднократные и весьма острые конфликты между московскими археологами и АИМК. Сохранить за АИМК как за высшим археологическим учреждением страны исключительное право на заключение по делам о раскопках Отделу представлялось и представляется совершенно необходимым, т. к. только этот порядок обеспечит правильную археологическую жизнь страны, исключая возможность самовольных и недостаточно хорошо научно обоснованных археологических предприятий. Но в то же самое время Отдел по делам музеев не мог бы не учитывать все неудобства, вытекающие из того, что: а) Академия включает в себя исключительно ленинградских археологов; б) что вокруг археологического подотдела Отдела по делам музеев, возглавляемого В. А. Городцовым, сосредоточены московские археологические силы, никак не связанные с АИМК».
В сущности, опять ставился вопрос о консолидации научных сил, причем со стороны административного органа, явно заинтересованного в едином фронте. Причина видится в том, что обозначились первые признаки наступления государственной идеологии на учреждения культуры и саму область ее развития. Уже состоялся первый выпуск Института красной профессуры в Москве, который стал претендовать на контроль за подготовкой научных кадров. Появились и первые свидетельства попыток Главполитпросвета подмять под себя «музейное строительство». Проблемы требовали быстрого и, главное, компетентного реагирования со стороны Отдела, так что привлечение максимально большего количества специалистов было необходимо. Как явствует из «Докладной записки», Отдел хотел бы возобновить работу МС на новых основаниях, «вполне учитывающих: 1) наличие московских ученых, работающих в круге компетенции Академии; 2) необходимую связь с Отделом по делам музеев, ведающим: а) археологическими раскопками 〈…〉 Уничтожение секции в Москве: 1) окончательно нарушит ясность в вопросах, связанных с раскопками; 2) сделает необходимым кардинальный пересмотр вопроса о правах и обязанностях Отдела и Академии; 3) лишит возможности Отдел опираться в целом ряде вопросов на организованный научный авторитет московских ученых». Возникает вопрос об авторстве этого документа. Это письмо от МУЗО, вероятно, должно было готовиться в АПО. Соответственно, заведующий АПО В. А. Городцов должен был выступать не против МС, а за ее сохранение. С другой стороны, каким-то образом дело о «параллелизме» было инициировано в ГУС. Возможно, оно возникло по представлению Археологической комиссии, входящей в Научную музейно-библиотечную секцию ГУС, которой руководил он же. Сам же Городцов как раз в 1924 г. сложил с себя обязанности члена МС.
Числа в «Докладной записке» МУЗО нет, но очевидно, что этот документ появился в начале 1924 г., когда возникла угроза, и оказал влияние на позицию «большой» РАИМК в отношении МС. По поводу возобновления ее работы Н. И. Троцкая неоднократно контактировала с Н. Я. Марром. В результате по его ходатайству перед НКП в феврале 1924 г. в помещении ГИМ произошло восстановление секции «как органической части Академии». Причиной возобновления МС названа необходимость иметь в Москве «достаточно компетентное учреждение не только научное, но и консультативное для центральных ведомств по надобности». Таким образом, определились направления работы МС (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 18. Л. 3).
Сама секция яростно сопротивлялась угрозе ликвидации и отстаивала пользу своего существования. Известна «Докладная Записка Московской секции РАИМК» от 16.07.1924, адресованная Н. И. Троцкой (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1070. Л. 7–8). Председатель Д. Н. Егоров никакого «параллелизма» не видит. РАИМК (и в составе ее МС) существует «для всестороннего объединения научно обеспеченного планового строительства музейного дела в его целом». НИИ археологии и искусствознания – как одно из звеньев в цепи исследовательских институтов, ведающих «учено-учебной работой в определенной области». Также указано, что РАИМК – первая по времени создания (1919 г.), а если потом и возникали новые иные учреждения, они мельче и ищут координации с РАИМК. «Все процессы научного обобществления материальной старины» сосредоточены в РАИМК: от поиска материала до его экспозиции; РАИМК – координатор научных дисциплин, лиц и учреждений. «Ни этнология, ни этническая антропология, ни музейная методология не представлены и не могут быть представлены» в узко специальных учреждениях, каковым является НИИ археологии и искусствознания. Подведены итоги деятельности МС за три с половиной месяца (с возрождения в начале 1924 г.), проведено 19 заседаний, рассмотрен проект Инструкции Наркомпроса по учету и охране памятников искусства, старины, быта и природы, дано 16 отзывов на заявки на получение ОЛ и т. д. И все это – работа 2-х штатных единиц («административной и технической») и московской научной общественности, не получавшей за этот труд никакой зарплаты. Следует основной вывод: «Научно-консультативная работа Академии и специально ее Московской секции, находящейся в постоянной координации с центральными ведомствами, не подвержена никаким параллелизмам с работой других учреждений, так как именно отсутствие такового сосредоточения всесторонней ученой экспертизы для нужд государства и создало Академию, а центральное положение Москвы создало необходимость ее Московской секции». Интересна выбранная Д. Н. Егоровым линия защиты. Он обосновывает полезность РАИМК в целом и, исходя из этого, необходимость существования московского филиала.
Тогда же, в июле 1924 г., последовали обращения в Главнауку из ГИМ, Центрального бюро краеведения, Научной ассоциации востоковедов – учреждений, вставших на защиту МС. В письме ЦБК отмечено, что РАИМК и ее Московская секция установили плодотворный контакт с краеведческими обществами. «…Благодаря Академии в широкие массы проникли основательные представления о научной ценности археологических памятников, о бережном отношении к ним и, особенно, о недопустимости раскопок людьми неквалифицированными». Поэтому еще в 1921 г. Первая краеведческая конференция обратилась с призывом ко всем краеведам Союза руководствоваться научными указаниями Академии (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. хр. 1070. Л. 9–9 об.).
Теперь положение секции изменилось. Из Ленинграда с апреля 1924 г. регулярно поступали выписки из журналов заседаний Правления и Совета РАИМК и Комиссии по раскопкам. Протоколом заседания Совета РАИМК от 17.03.1924 (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 5. Л. 8–9 об.) зафиксировано, что Д. Н. Егоров избран ученым сотрудником (но не членом! – И. С. ) РАИМК единогласно. И это только в 1924 г., когда в НКП уже был поставлен вопрос о фактической ликвидации МС! В конце марта Совет РАИМК постановил просить Главнауку увеличить финансирование Академии в связи с необходимостью выделять средства для работы МС (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 8. Л. 3–3 об.). В начале 1925 г. Д. Н. Егоров делал на заседании Совета отчетный доклад. Деятельность МС была оценена высоко (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 9. Л. 1–1 об.). МС сотрудничала и с Глав-наукой9, от которой в марте 1926 г. впервые за всю историю взаимоотношений последовало приглашение для ученого секретаря МС участвовать в Методическом Совещании при Главнауке (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 10. Л. 16–16 об.).
Итак, Московскую секцию удалось общими усилиями отстоять. Представляется, что главную роль в этом сыграла позиция МУЗО. Перед лицом опасности руководство «большой» РАИМК осознало не только необходимость сохранения московской организации, но и придания ей значительных полномочий. Это было отражено в «Положении о Московской секции РАИМК», утвержденном Советом РАИМК в апреле 1924 г. (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 5. Л. 4–5 об.; ед. хр. 17. Л. 2–2 об.). Определилась и четкая структура. В составе МС образовывались пять комиссий: археологическая, этнологическая, по истории быта, по истории искусства, музейная, а также Научно-техническая лаборатория по изучению древних тканей. Наиболее результативной и организованной была работа Комиссии по археологии (на конец 1927 г. – 22 члена, 4 сотрудника; 61 заседание с 1924 по 1927 г.) (Сборник, 1928. С. 6–11). На ее заседаниях с привлечением ведущих как московских и иногородних специалистов, так и членов «большой» ГАИМК (А. А. Спицын, А. А. Миллер, В. К. Шилейко, Л. А. Богаевский и др.) рассмотрены результаты наиболее значимых полевых работ, а также заслушаны и обсуждены доклады теоретического характера. Секцией руководил Президиум, избранный ее Пленумом. Также президиумы стояли во главе комиссий. В совокупности все эти президиумы образовывали Совет МС. В секциях состояли их члены (список утверждался в Ленинграде) и сотрудники. Особенно интересен последний пункт «Положения»: члены МС и «большой» РАИМК имеют право участвовать в заседаниях обеих частей, прибывая из Москвы в Ленинград и наоборот. «Подробности взаимоотношений РАИМК и МС в ведении научных дел нормируются инструкциями, вырабатываемыми Академией и ее Московской частью». МС даже получила право на создание новых научных учреждений и управление ими. Таким образом, была заложена основа превращения Московской секции в крупное научное учреждение.
Первый личный состав МС был утвержден Советом РАИМК одновременно с «Положением». Руководили секцией Д. Н. Егоров (председатель) и Н. Д. Бакланов (ученый секретарь). Кандидатура председателя была одобрена на самом высоком уровне – А. В. Луначарским, М. Н. Покровским, Ф. Н. Петровым (руководителем Главнауки), Н. И. Троцкой. Она также полностью устраивала московскую научную общественность (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 18. Л. 3). Но впоследствии и МС не миновали «чистки».
Еще раз вопрос о судьбе Московской секции вызвал острую дискуссию в начале 1929 г. в связи с предстоящей печально известной реорганизацией и «чисткой» ГАИМК. Тогда под угрозой оказалась и Академия наук ( Платонова , 2010. С. 230–231), и РАНИОН. Опять возник разговор о слиянии с НИИ археологии и искусствознания. На заседании Производственного Совещания ГАИМК, посвященного МС, 12 февраля 1929 г. состоялся отчетный доклад Д. Н. Егорова. После этого началось обсуждение, что делать с секцией: сливать с НИИ (перетянув его из РАНИОН в ГАИМК) или оставить и разделить организации по выполняемым задачам (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 19. Л. 1–2)? Н. Я. Марр (отметивший, кстати, игнорирование яфетической теории в МС) поставил вопрос: что, собственно, представляет собой МС – «исследовательское общество» или научно-исследовательское учреждение? Разница понятна. МС была достаточно самостоятельна и по стилю работы (отсутствию жестких планов и исследовательских тем) воспринималась как свободное сообщество ученых, нечто вроде МАО.
Вместе с тем МС все время своего существования действительно работала практически на общественных началах, в чем виновата же была «большая» ГАИМК, денег не выделявшая. Полный оклад получали только 4 члена, остальные – лишь небольшие пособия. При этом к 1929 г. в МС состояло 9 членов и 136 сотрудников10 – аппарат полноценного научно-исследовательского института. Сделанное на том же Совещании замечание Н. Я. Марра о том, что изначально МС организовывалась под «добровольный труд», выглядит весьма цинично. И чего можно было требовать в таких условиях? Руководство ГАИМК полагало, что МС не удастся превратить в научное учреждение – слишком сильна традиция «общественности». Но в то же время обсуждались и перспективы расширения функций Академии, если она выйдет из подчинения РАНИОН и приобретет статус учреждения всесоюзного масштаба
(что и произошло в 1930-е гг. в связи с началом крупных новостроечных экспедиций). Тогда МС, безусловно, будет нужна. Еще лучше, по мысли Н. Я. Марра, было бы объединить МС, НИИ археологии и искусствознания и Объединение доисториков Антропологического общества МГУ и подчинить это новое образование Академии. В результате в Протоколе Совещания работа Секции была признана успешной, но указано, что для будущих работ секции необходима «теснейшая увязка с работами Академии», в частности с Раскопочной комиссией.
Целью реорганизации гуманитарной науки в конце 1920-х гг., безусловно, было желание государства сократить расходы, в связи с чем опять возник вопрос о «параллелизме» теперь уже всех центральных учреждений археологического профиля (Там же. С. 234). Московская секция готовилась к реорганизации в составе Академии. В ответ на запрос в ГАИМК о судьбе секции (финансирование по-прежнему отсутствовало) последовал ответ за подписью Н. Я. Марра, согласно которому в связи с реорганизацией ГАИМК по Постановлению президиума РАНИОН от 23.04.1929 МС прекращает работу, а далее Президиум ГАИМК решит, как будет организован филиал в Москве (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 20. Л. 6). 20 ноября 1929 г. Д. Н. Егоров был освобожден от должности в числе прочих членов и сотрудников ГАИМК и МС. Он был арестован в августе 1930 г. по «академическому делу», включен следствием в «московскую группу заговорщиков», в августе 1931 г. приговорен к 5-летней ссылке в Ташкент, где скончался в том же году. В 1930 г. были арестованы видные члены бывшей МС: Ю. В. Готье, А. А. Захаров, Б. С. Жуков, Б. А. Куфтин, А. С. Башкиров, И. Н. Бороздин и пр. Репрессии пережили не все.
Новый московский филиал ГАИМК был открыт в марте 1932 г. постановлением Сектора науки Наркомпроса (бывшая Главнаука) на базе сектора археологии Государственной академии искусствознания (ГАИС), образованной в 1931 г. вместо ряда ликвидированных институтов, в том числе НИИ археологии и искусствознания ( Мишулин , 1932. С. 72; Формозов , 2004. С. 53). Работа сектора археологии ГАИС подверглась резкой критике функционерами Коммунистической академии, в которую влились реорганизованные институты РАНИОН, в том числе ГАИС. В то же время ГАИМК, благодаря активному внедрению марксистской идеологии, оказалась в числе учреждений – лидеров гуманитарной науки, а поскольку в Москве также был необходим центр марксистской археологии, организация здесь филиала ГАИМК была естественной мерой. При этом «основное ядро работников (прежде всего руководителей секторов) МОГАИМК получало от Комакадемии» ( Мишулин , 1932. С. 73, 74). Таким образом, в Москве начало работу уже не «общество» с непонятными функциями и неопределенной программой действий, а научное подразделение ГАИМК. Сменился состав, исчезла самостоятельность, зато появилось финансирование.
Подводя итоги, отметим следующее. С 1920 г. в Москве под эгидой Академии истории материальной культуры существовала организация, объединившая в своих рядах лучшие силы московских археологов, этнологов, историков, искусствоведов, музееведов, работавших в разных московских учреждениях. Численность (за счет внештатных сотрудников) этой организации позволяет считать ее крупным научно-исследовательским центром. Судя по протоколам заседаний МС за 1924–1928 гг. (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 88–92), выполнена огромная научно-исследовательская работа по разным направлениям как археологии, так и других близких наук. Московская секция работала в тесном контакте с Музейным отделом Наркомпроса как в методических аспектах (рассмотрение инструктивных документов), так и в консультативных (многочисленные заключения по заявкам на выдачу Открытых листов и иным вопросам). Не имея собственных средств на проведение полевых исследований, МС «работала над материалами, добытыми на средства ряда аналогичных учреждений 〈…〉 внося, таким образом, свою долю в дело кооперированного исследования археологического и этнологического материала» (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 92. Л. 47). Московская секция отчаянно пыталась выжить в непростых условиях того времени и существовала скорее благодаря поддержке МУЗО, нежели РАИМК-ГАИМК. Деятельность МС в силу как отсутствия самостоятельного финансирования, так и исходя из менталитета работавших в ней ученых, была организована скорее по принципу научного общества, а не научно-исследовательского учреждения. В условиях жесткого идеологического давления со стороны государства она не вписывалась в новые структуры и уступила место МОГАИМК, полностью подчиненной реорганизованной Академии.
Список литературы Московская секция академии истории материальной культуры
- Институт археологии: история и современность/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. 271 с.
- Кузьминых С. В., Сафонов И. Е., Сташенков Д. А, 2007. Вера Владимировна Гольмстен. Самара: Офорт. 167 с.
- Мишулин А. В., 1932. К открытию отделения ГАИМК в Москве//СГАИМК. № 3-4. С. 72-74.
- Платонова Н. И., 2010. История археологической мысли в России. СПб.: Нестор-история. 314 с.
- Сборник Московской секции ГАИМК к 10-летию Октября. М.: Изд-во МС ГАИМК. I. 63 с.
- Сорокина И. А., 2011. Регламентация полевых исследований в России и представления о ней государства, ученых и общественности во второй половине XIX и начале XX веков//Российский археологический ежегодник. СПб.: Издательский дом СПбГУ. № 1. 2011. С. 452-471.
- Сорокина И. А, 2014. Организация российской полевой археологии в первые годы после двух революций (1917-1920 гг.)//Российский археологический ежегодник. СПб.: Университетский издательский консорциум. 2014. С. 499-514.
- Тихонов И. Л., 2008. Императорская археологическая комиссия (1859-1918 гг.). К 150-летию создания//Из истории отечественной археологии. Воронеж: Изд-во ВГУ. Вып. 1. С. 13-65.
- Фармаковский Б. В., 1921. К истории учреждения Российской академии истории материальной культуры. Отдельный оттиск. Пг. 10 с.
- Формозов А. А., 2004. Русские археологи в период тоталитаризма. М.: Знак. 316 с.