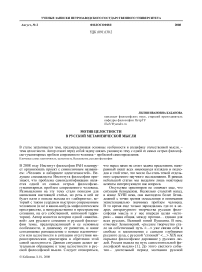Мотив целостности в русской метафизической мысли
Автор: Кабанова Лилия Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается тема, предопределившая основные особенности и специфику отечественной мысли, - тема целостности. Автор ставит перед собой задачу связать указанную тему с одной из самых острых философ- ско-гуманитарных проблем современного человека - проблемой самоопределения.
Идентичность, целостность, всеединство, русская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/14749427
IDR: 14749427 | УДК: (091)130.2
Текст научной статьи Мотив целостности в русской метафизической мысли
В 2008 году Институт философии РАН планирует организовать проект с символичным названием: «Человек в лабиринте идентичностей». Ведущие специалисты Института философии признают, что проблема самоидентификации является одной из самых острых философско-гуманитарных проблем современного человека. Размышления на эту тему стали поводом для написания настоящей статьи, но речь в ней не будет идти о поиске выхода из «лабиринта», который с таким усердием выстроен современным человеком (и не в каком-нибудь мифологическом пространстве, а непосредственно в пространстве сознания, на его собственной, интимной территории). Автор коснется истории одной «навязчивой» для русского сознания и русской философии темы, предопределившей и ее основные особенности, и динамику ее развития, и наше сегодняшнее размышление о поиске идентичности или целостности в ситуации отсутствия мировоззренческих ориентиров в обретении этой самой целостности. Данная ситуация делает актуальным обращение к теме целостности в русской философской мысли. Следует оговориться, что перед нами не стоит задача представить панорамный охват всех имеющихся взглядов и подходов к этой теме, что могло бы стать темой отдельного серьезного научного исследования. В рамках небольшой статьи мы выделим лишь некоторые аспекты интересующего нас вопроса.
Отсутствие ориентиров не означает еще, что ситуация безнадежна. Несколько столетий назад, в конце XVIII века, она выглядела более безнадежной с точки зрения осмысления и понимания экзистенциально значимых проблем человека. В то время еще только зарождалась где-то в недрах литературного творчества русская философская мысль и у нее впереди целая «история» – наша общая, между прочим… единая для всех русских. Великий гений Пушкина. В нем, отмечает Зеньковский, «русское творчество стало на собственный путь <…> уже связав себя в свободе и вдохновении с самыми глубинами русского духа, с русской "стихией" <…> XIX век окрылил философское дарование у русских людей. Россия вышла на путь самостоятельной философской мысли» [1]. До этого светлого события – длительный период молчания русской мысли, дремотный сон спонтанного миропонимания. Вплоть до XIX века философские запросы находят свое разрешение в различных формах религиозного миропонимания: подвижничество, нравоучительная литература, религиозное творчество. Философская мысль впервые зарождается в сфере художественной, и это обстоятельство делает русскую философию в некотором роде восприемницей тех идей, что первоначально выкристаллизовываются в русской литературе. После Пушкина наиболее значимое влияние на формирование русской мысли оказали Гоголь, Толстой и Достоевский. Они обогатили русскую культуру философским движением и задали тон для развития идей, имеющих глубокий онтологический смысл.
Проблема целостности оказалась в центре внимания отечественных мыслителей. Из устремленности русской мысли к Целому или к Абсолюту возникнет заинтересованность темой человека и его судьбы. Утвердится идея о том, что исключительно в контексте устремленности к данной и заданной целостности раскрывается смысл и значение человеческого существования и его экзистенциальной значимости. Мотивом целостности пронизана вся история русской мысли (от Гоголя, Толстого и Достоевского до славянофилов, Вл. Соловьева и русской религиозной философии). В основании ряда философских исканий окажется тема противостояния индивидуализму. Первым свою критику индивидуализма развивает Чаадаев, причем через понятие, которое, казалось бы, и ведет к индивидуализму и персонализму. Это понятие свободы. Свобода человека, согласно Чаадаеву, должна быть ограничена чувством Бога (высшего, мирового сознания, управляющего ходом истории), иначе свобода может представлять разрушительную для человека силу, ведущую его не к добру, а ко злу. Причиной такого искаженного направления свободы, по Чаадаеву, является индивидуализм. Данная тема станет основополагающей и в философии ранних славянофилов - Хомякова, Киреевского, Самарина, Аксакова, но в отличие от философии Чаадаева она будет рассматриваться в экзистенциальном и антропологическом аспектах, а не в историософском.
Славянофилы отмечают два возможных пути в развитии культуры и личности. Один путь (разрушительный, присущий, по их мнению, западной культуре) связан с процессом индивидуализации, обособления, а второй (созидательный, к которому и устремлена русская культура) - с процессом самоограничения во имя высшего целого - общины, Церкви. Критика индивидуализма в философии славянофильства разрабатывается в духе соборного сознания, идея которого по сути своей онтологична. Хомяков, исходя из идеи церковного сознания, разрабатывает учение о личности, в основе которого - отказ от принципа индивидуализма. Личность для Хомякова возможна только в общем, социальном целом, а без этой общности (приобщенности к Церкви) она не может раскрыть себя во всей полноте и силе. Образцом социального целого для Хомякова, как и для других славянофилов, выступают «община» и Церковь. Путь человека к целостности - тот же, что и путь к церковному сознанию. В необходимости выбора пути заключается причина трагизма человеческой жизни.
Философия славянофилов подготавливает почву, на которой затем развивается онтология Соловьева и его учение о Всеединстве, обозначившее тематику и тональность всех важнейших философских построений рубежа веков. В основе метафизической мысли Соловьева лежит идея некоего Абсолюта, того, что уводит человека от грубой действительности в совершенно иной срез бытия, в котором торжествует идея добра, истины и красоты. Идея единства добра, истины и красоты, или идея Всеединства, приобщает человека к пониманию целого и единого. Частное бытие идеально лишь тогда, когда не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, а общее идеально в той мере, в какой оно дает место частному: «Различение между идеальным, т. е. должным, бытием и бытием недолжным <...> зависит вообще от того или иного отношения частных элементов мира друг к другу и целому» [2]. Они (эти элементы) не должны исключать друг друга и одновременно не должны исключать целого, то есть утверждать свое частное бытие на единой всеобщей основе. Ложь, зло и «всякое безобразие» являются показателями нарушения взаимной солидарности и равновесия частей и целого. Соловьев поясняет, что критерий идеального бытия есть наибольшая самостоятельность частей при наибольшем единстве целого.
Идея Соловьева о Всеединстве задала тон последующим философским размышлениям. На первый план выходит проблема смысла: смысла жизни, смысла истории, смысла любви... Смысложизненная проблематика становится характерной не только для представителей русской религиозной мысли, что было для них органично и закономерно, но захватила собой и представителей русской культуры с секулярным сознанием, например А. Белого. Для подтверждения сказанного обратимся к некоторым размышлениям русского религиозного философа Е. Н. Трубецкого и представителя русского символизма А. Белого. Как мы уже заметили, мотив целостности выходит у них на первый план.
Трубецкой, опираясь на учение Соловьева о Всеединстве, раскрывает значение слова «смысл». Он поясняет, что смысл - это безусловная, общезначимая мысль, которая носит всеобщий и необходимый характер и потому является истинной. Он наделяет смысл онтологическими качествами: смысл обладает свойствами необходимости и всеобщности, он неизменен и неподвижен, сверхвременен, всегда облечен в форму вечности и постигается (о-сознается) только в сознании человека. Приобщиться к единому и для всех обязательному смыслу – значит познать истину Бытия. Мысль же, неспособная стать общезначимой, обозначается Трубецким как бессмысленная.
С аналогичными выводами сталкивает нас философия А. Белого. Он отмечает, что основной чертой нашего времени является отсутствие опыта целого, что влечет за собой потерю жизненного смысла, заставляет задуматься о бессмысленности происходящего. Немаловажную роль в формировании подобного настроения играет современная философия, которая, по мысли Белого, «не отвечает на вопрос о жизненном смысле» [3], но является знанием о знании. Смещение центра философии к мышлению о мышлении сузило область ее притязаний на целостность. По мере того как философию захватила гносеологическая проблематика, вопросы о смысле переместились к способам логических манипуляций с суждениями, умозаключениями и понятиями. Если мы озаботимся вопросом о смысле жизни, то философия может ответить на это следующим образом: «…если вы будете строить так-то и так-то, то вы получите ответ о жизненном смысле такой-то, а если вы будете строить так-то и так-то, то вы получите другой ответ. Стало быть, вы получите столько ответов о жизненном смысле, сколько есть основных форм познавательных <…> Смысл бессмысле-нен, законы, вопросы о смысле стали в современной философии бессмысленными» [4]. В рамках научно-теоретических рассудочных смыслов человеческое «Я» тоже теряет свой смысл, потому что из «Я» становится субъектом познания. Философия, понимаемая когда-то как путь, превратилась в «беспутицу», в каталог научных, религиозных, этических и других тропинок человеческого познания, которые, чем более каталогизированы, тем более доступны и понятны. В этом каталоге человеческих устремлений не остается места самому ищущему «Я». Оно попросту выпадает ввиду невозможности его каким-нибудь образом каталогизировать, теряется, как мы отметили, в лабиринте идентичностей.
Важным итогом философской рефлексии о целостности стала выработка определенных мировоззренческих ориентиров, которые были призваны помочь человеку определиться в мире. Была сформирована метафизическая ориентация мысли в русской культуре, препятствовавшая всеохватному распространению утилитаристского, позитивистского типа мышления. Хорошо понимая, что распространение позитивистского мировосприятия может поставить под сомнение саму возможность онтологического измерения культуры и человека в ней, русские мыслители предупредили о нависающей над человеком опасности потеряться, не найти себя в мире вне опыта обретения целостности.
Немаловажно то, что данная линия мысли нашла продолжение в текстах современных русских философов. Это означает, что мотив целостности не утратил своей актуальности в современ- ной культуре, но приобрел дополнительный смысл. Для подкрепления этих выводов обратимся к некоторым размышлениям В. В. Бибихина. В основе его текста «Русская мысль» – размышление о мире. Тема мира – это продолжение вопрошания об опыте обретения целостности. Наряду с географическим пространством есть еще и пространство мира, требующее своего осмысления, понимания, видения, некоего герменевтического истолкования. Интерес к теме мира продиктован недостаточным вниманием к этой теме со стороны тех, кого этот мир собственно приютил, то есть всех нас. Бибихин обращает внимание на то, что для современного человека почти все стало проблемой, кроме проблемы мира. Этой проблемы вовсе не существует: «У нас слишком много хлопот в мире, чтобы и мир еще тоже надо было искать» [5]. Легкое отношение к тому, что дается, как кажется многим, просто так, порождает ту безутешность мысли, при которой уже не утруждаешь себя необходимостью поиска мира.
Действительно, если бы мир стал проблемой, многое, возможно, изменилось бы. Ведь о существовании проблемы свидетельствует только некое внутреннее беспокойство или обеспокоенность. Но не повседневное, суетное, утилитарное беспокойство, а беспокойство миром. Разница между беспокойством повседневным и беспокойством мира заключается в том, что первое все дальше отодвигает человека от мира, когда «в нас самих мы не видим мира» [6], а второе заставляет задуматься и понять, что все, что ты есть, – это действие мира. Понимание этого заставляет изменить свое отношение к миру или хотя бы признать его первостепенную важность наряду с другими, конечно же, очень важными вещами в жизни человека. Думается, только такая позиция может помочь человеку справиться с двойниками внутри себя и обрести желаемую целостность.
По мнению Бибихина, русских всегда влекло к фундаментальным метафизическим ценностям мира. Эти ценности соразмерны русским. Может быть, неосознанно, может быть, ввиду территориального размаха и соответствующего ему размаха души. Душа столь широка, что способна вместить в себя многое. Например, страдание. Когда мы слышим о том, что Россия «многострадальная» страна, мы, наверное, не очень хорошо понимаем, что многострадальность для русских – это тот единственный способ бытия в мире, который стал нашей устойчивой традицией. Бибихин связывает тенденцию к вечному страданию и долготерпению с так называемой «встроенной метафизикой» [7] в общественном устройстве. Со своей стороны нам хотелось бы добавить, что речь может идти об использовании этого понятия применительно к русской душе. Эта встроенная метафизика имеет черту отрицания способности человека устроить на земле своими средствами самого себя. Долгий опыт неустроенности, неуместности (о чем уже лучше, чем Чаадаев, не скажешь) и еще… какой-то тихий безропотный жест русского крестьянина, который машет рукой на все это и идет пахать землю, ибо, если он этого делать не будет, то на следующий год вся его семья вымрет от голода, как раз в то время, пока устраивается и никак не может устроиться русская земля. Может быть, это тоже проявление «встроенной метафизики» в русской душе? Тотальное неверие в происходящее, в обстоятельства жизни и одновременное движение к миру, порядку, к осознанию того, что человек и его душа прежде всего (то есть раньше) принадлежат миру, целому, чему-то превос- ходящему и непостижимому, а потом уже и всему прочему.
Подводя итог, подчеркнем еще раз, что основная миссия метафизической линии мысли в русской философии заключается в обеспокоенности темой целостности или мира. Мир, как пахотное поле, только и существует благодаря тому, что возделывается кем-то, хотя бы тем же самым русским мужиком, со «встроенной метафизикой» в душе. Без этого возделывания, без наличия мысли о Целом, о Бытии, о Мире, о Всеединстве ничего не останется, кроме невозделанного поля и лабиринта, в котором так трудно отыскать самого себя.
Список литературы Мотив целостности в русской метафизической мысли
- Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1. Л.: МП «Эго», 1991. С. 13.
- Cоловьев В. С. Общий смысл искусства//Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 78.
- Белый А. Философия культуры//Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон +, 2004. С. 498.
- Белый А. Философия культуры.. С. 498.
- Бибихин В. В. Язык философии. М.: Наука, 2002. С. 375. С. 392.