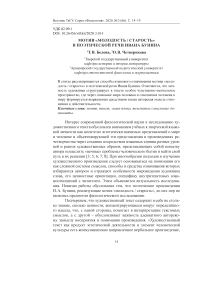Мотив "молодость / старость" в поэтической речи Ивана Бунина
Автор: Белова Татьяна Викторовна, Четверикова Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы языкового означивания мотива «молодость / старость» в поэтической речи Ивана Бунина. Отмечается, что личность художника структурирует в тексте особое чувственно-ментальное пространство, где через описание мира человека и отношения человека к миру формируется выраженная средствами языка авторская модель отношения к действительности.
Мотив, текст, знаки языка, текстовые смысловые доминанты
Короткий адрес: https://sciup.org/146281700
IDR: 146281700 | УДК: 82.09-1 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.014
Текст научной статьи Мотив "молодость / старость" в поэтической речи Ивана Бунина
Интерес современной филологической науки к исследованию художественного текста обусловлен вниманием учёных к творческой языковой личности как носителю эстетически значимых представлений о мире и человеке и объективирующей эти представления в произведениях ре-четворчества через создание посредством языковых единиц разных уровней и рангов художественных образов, представляющих собой попытку автора осмыслить «вечные» проблемы человеческого бытия и найти свой путь в их решении [3; 5; 6; 7; 8]. При многообразии подходов к изучению художественного произведения следует основываться на понимании его как сложной системы смыслов, способы и средства означивания которых избираются автором и отражают особенности мировидения художника слова, его ценностные ориентации, специфику внутритекстовых взаимоотношений с читателем. Этим объясняется актуальность исследования. Новизна работы обусловлена тем, что поэтические произведения И. А. Бунина, реализующие мотив «молодость / старость», до сих пор не являлись предметом филологического исследования.
Подчеркнем, что художественный текст содержит в себе не столько знание, сколько ценности, концентрирующиеся вокруг определённого идеала, что, с одной стороны, помогает в интерпретации текстовых смыслов, а с другой – обусловливает важность адекватного авторскому замыслу восприятия и понимания произведения. «Художественный текст как продукт эстетической деятельности и элемент человеческой культуры есть коммуникативно направленное вербальное произведение, обладающее структурно-смысловым единством, обусловленным авторскими интенциями, являющееся носителем эстетических идеалов, воплощённых в художественных образах, и представляющее собой специфическую модель отношения к миру, возникшую в результате когнитивной, духовно-нравственной и эстетической деятельности художника слова» [6, с. 44].
В рамках статьи на примере анализа поэтических произведений И. А. Бунина рассмотрим один из ведущих мотивов его лирики – мотив «молодость / старость», творческое осмысление которого позволяет художнику обращаться к определенным темам, создавать свой образный ряд, «работающий» на означивание замысла. Избранные автором знаки языка служат выдвижению текстовых смысловых доминант.
Словарное значение лексемы молодость – «возраст от отрочества до зрелости» [4, т. 2, с. 292]. В поэтической речи И. А. Бунина мотив молодости реализуется и в текстах, описывающих природные явления, и в любовной лирике, и в стихотворениях, в которых лирический герой размышляет о быстротечности жизни, вспоминает дни своей юности, своих близких. Лексема молодость у поэта имеет контекстуальные синонимы весна, утро, юность, девушка-невеста, ср. (тексты Бунина здесь и далее цитируются по [2], курсив - авторов статьи): Вся молодость моя - скитанья / Да радость одиноких дум! («Седое небо надо мной»); В стороне далекой от родного края / Девушкой-невестой снится мне Весна: / Очи голубые, личико худое, / Стройный стан высокий, русая коса <…> На устах улыбка, а в очах раздумье / Юности и счастья первая весна! («В стороне далекой от родного края»); Моя весна тогда зовет меня, – / Мечты любви и юности далёкой («В степи»). Частотны у И.А. Бунина словосочетания молодые годы, далекая юность, предикат молод: Я люблю, я молод, молод: / Что мне этот шум аллей / И осенний мрак и холод?.. («Листья падают в саду»); В то селенье, где шли молодые года, / В старый дом, где я первые песни слагал, / Где я счастья и радости в юности ждал, / Я теперь не вернусь никогда, никогда («Ту звезду, что ка-чалася…»). Мотив молодости в лирике И.А. Бунина находится в отношениях текстовой корреляции с мотивами любви, радости, счастья [1]. Лирический герой живет мечтами, надеждой на счастливую встречу с той, которая предназначена судьбой. Его юная возлюбленная хороша собой, стройна, застенчива, но «с огнем потупленного взгляда». Описывая героиню, И.А. Бунин прежде всего рисует ее портрет – лицо, глаза, улыбку, любуется красотой ее стана, легкостью походки: Милый взор зовет меня украдкой, / Ласковой улыбкою манит («Снова сон…»); Ты, как звезды, чиста и прекрасна... («Звезды ночью весенней нежнее...»); Стан струится беспокойно, / И жемчужна смуглость щёк («Цыганка»). Лирический герой открыт для всего нового, ощущает себя свободным, влюбленным в жизнь. Номинация молодость ассоциативно связана с лексемами надежда, воля, свобода: Ты, молодость моя, вы, годы / Надежд, сердечной простоты, / Беспечной воли и свободы, / Счастливой грусти и мечты, – / Какой-то край обетованный… («И снова вечер…»). Обратим внимание, что у бунинского героя в молодые годы даже грусть «счастливая», он испытывает радости от «одиноких дум», его сердце «в тайной радости тоскует»; полный творческих сил, он засыпает «Молодой, беззаботный, с отрадной / Думой-песней о песне грядущей».
В стихотворении «Помпея» лирический герой, вспоминая свое посещение в молодые годы развалин древнего города, говорит о скуке «этих переулков»; в них нет жизни, они «Мертвей и чище нового музея». В его памяти осталось лишь то, что дышало жизнью в тот далекий весенний день: Туман долин, Везувий и сады . Молодость радуется жизни, верит в её бесконечность и не хочет думать о смерти: Как мёд в незримых сотах, / Я в сердце жадно, радостно копил / Избыток сил – и только жизнь любил . И. А. Бунин актуализирует чувственно-страстное восприятие жизни своим героем, связывая с понятием «жизнь» всё живое, что есть в природе, что прекрасно и вечно в своём постоянном изменении: Жизнь зарождается в мраке таинственном. / / Радость и гибель ея / Служат нетленному и неизменному – / Вечной красе Бытия! («Ветер осенний в лесах подымается»).
Начиная с 1900-х годов все чаще в стихотворениях И. А. Бунина и все громче звучит мотив бренности человеческой жизни; он сожалеет об ушедшей юности, свежести, о том, что к прошлому возврата нет. В текстах появляются номинации мрак, сон, одиночество, закат, смерть, могила, гроб , предикаты вспоминать, напоминать , оценочные конструкции минорного звучания ( прошлого туманный след; потерянный рай; вечный мрак, чертог гробовой ), вокативные предложения, эксплицирующие эмо-тивную доминанту грусти: О весенние зори и теплые майские росы! / / О далекая юность моя ! («Все темней и кудрявей…»); О, росистый куст! О, взор, счастливый и блестящий, / И холодок покорных губ («Перед закатом набежало…»). Лирический герой вписывается поэтом в мир окружающей природы, но теперь он печален. Так, в стихотворении «Не угас еще вдали закат…» образ молодого месяца совмещен с образом героя, такого же одинокого, с грустью вспоминающего свою юность, свою первую любовь: Завтра он зарею выйдет вновь / И опять напомнит, одинокий, / Мне весну, и первую любовь, / И твой образ, милый и далекий. Бунинский герой все чаще задумывается о старости, не может примириться с мыслью о том, что дни человека конечны.
Словарное значение лексемы старость – «наступающий после зрелости период жизни, в который происходит постепенное ослабление деятельности организма» [4, т. 4, с. 251]. Мотив старости оказывается в творчестве И. А. Бунина ключевым, особенно в ранних прозаических произведениях («Кастрюк», «На хуторе», «На чужой стороне», «В поле», «На край света»). Лексема старость в его лирике имеет ассоциаты старик, дедушка, увяданье, закат, запад, ночь, тление, означивается атрибутивными конструкциями, репрезентирующими ценностные ориентации субъекта: пепел серый, зимний день, догоревший день, иссохшие уста: На закат / Смотрел старик с беспомощною верой… / Рос на сигаре пепел серый, / Струился сладкий аромат («Старик сидел, покорно и уныло»); Так тихо в курене, / Что слышен треск подсохшего гороха… / Да что кому до старческого вздоха / О догоревшем дне! («Сторож»).
В стихотворении «Дедушка» И. А. Бунин рисует довольно неприглядный образ старика, утратившего всякий интерес к жизни, однако сохранившего «лютый пыл» к еде: Дедушка ест грушу на лежанке, / Деснами кусает спелый плод. / / Поднял плеч костлявые останки / И втянул в них череп, как урод. / / Глазки – что коринки, со звериной / Пустотой и грустью. Все забыл. Старость у поэта, как правило, не имеет позитивных коннотаций: стареющий человек не живет в полной мере, а лишь вспоминает о былом, о давно пережитом. По сути, старость – переход от жизни к смерти: Старик сидел, покорно и уныло / Поднявши брови, в кресле у окна. / На столике, где чашка чаю стыла <…> / Часы в углу своею мерой / Отмеривали время… / <…> Смотрело солнце вечно молодое, / Но уж его сиянье золотое / На запад шло по комнатам пустым («Старик сидел, покорно и уныло»).
Старость – оборотная сторона молодости. И. А. Бунин использует эти категории не как антитезу, а как утверждение закономерности естественной смены этапов жизни. Прежняя активная деятельность молодого человека сменяется вынужденной пассивностью: Как старым морякам, живущим на покое, / Все снится по ночам пространство голубое / <…> Так кличут и меня мои воспоминанья: / На новые пути, на новые скитанья / Велят они вставать… («Зов»).
В отличие от молодости, старостью нельзя наслаждаться, но в текстах, описывающих природные явления, «умудренная» природа становится символом вечной жизни. В стихотворении «Старая яблоня» лирический герой восхищен полной жизни цветущей яблоней: Вся в снегу, кудрявом, благовонном, / Вся-то ты гудишь блаженным звоном / Пчел и ос… «Молодая старость» вечной природы принципиально, по мысли автора, отличается от «безжизненной», пассивной старости человека: Старишься, подруга дорогая? / Не беда! Вот будет ли такая / Молодая старость у других! Оксюморон молодая старость – способ актуализировать смысл «сохранить в себе остроту восприятия красоты мира». В бунинских текстах акцентируется отношение к жизни как к дару: стоит жить ради самого процесса жизни, но жить единою душою со вселенной.
Осмысление поэтом себя как частицы мироздания говорит о его приятии всех сторон жизни.
1Tver state University the Department of History and Theory of Literature 2Armavir State Pedagogical University
Department of Russian Philology and Journalism
ЧЕТВЕРИКОВА Ольга Владимировна – доктор филологических наук, профессор кафедры отечественной филологии и журналистики, Армавирский государственный педагогический университет, e-mail: chetverikova_o@ mail.ru.
About authors:
CHETVERIKOVA Olga Vladimirovna – Doctor of Philology, Professor at the Department of Russian Philology and Journalism, Armavir State Pedagogical University (352900, Armavir, Chicherin str., 130), e-mail: chetverikova_o@ mail.ru.
Список литературы Мотив "молодость / старость" в поэтической речи Ивана Бунина
- Белова Т.В. Молодость и старость в цикле "Темные аллеи" И. А. Бунина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 1 (60). С. 149-152
- Бунин И.А. Собр. соч.: в 4 т. М.: Правда, 1988.
- Бутакова Л.О. Авторское сознание в поэзии и в прозе: когнитивное моделирование: монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 283 с.
- Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1985-1988.
- Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте (на материале поэзии Г.Иванова и И.Анненского): дис. … докт. филол. н.: 10.02.01 / И.А. Тарасова; Саратов. гос. ун-т. Саратов, 2004. 459 с.
- Четверикова О.В. Знаки авторства как средства вербальной манифестации смысловой сферы творческой языковой личности / Армавирская гос. пед.академия. Армавир, 2013. 236 с.
- Fauconnier G. Mappings in thought and language. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. 205 p.
- Harre R. Personal meanings: semantic relations of the fourth kind // Personal meanings. Chichester etc.: Wiley, 1982. Pp. 9-22.