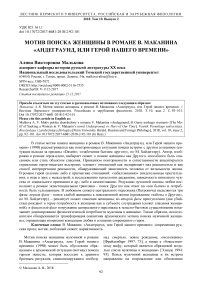Мотив поиска женщины в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени"
Автор: Малькова Алина Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 2 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье мотив поиска женщины в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) рассматривается как повторяющиеся ситуации поиска встречи с другим сознанием (ситуация выхода за пределы «Dasein»; «озабочение бытием другого», по М. Хайдеггеру). Автор, изображая в романе героя-идею, выбирает сюжет о поиске женщины как Другого, способного быть спасением или стать объектом спасения. Принципом повторяемости и сопоставимости акцентируется стремление героя-писателя выстроить «сюжет» отношений как эксперимент над реальностью и как способ интерпретации реальности, обнаруживающей зависимость человека от витальности жизни. В романе герой склонен либо к прагматике отношений: «забалтыванию» свидетельницы преступления; к игре в эрос с медсестрой; к исследованию психологии раскаяния, зависимости интимного чувства от социального признания и др.; либо к самопознанию. Редукцию духовной основы любви восполняет в романе экзистенциальная трактовка - поиск Другого как ответ на «зов бытия» и потребность быть услышанным. В любовном сюжете центрального персонажа (Петровича) выделяются три фазы: первая фаза - поиск слабой женщины в повседневной жизни (проявление «заботы о Другом», по М. Хайдеггеру) - реализует сюжет спасения женщины; во второй фазе преступления (два убийства) рождают в герое потребность в женщине как в субъекте сострадания (сюжет спасения женщиной); в финальной фазе погружение центрального персонажа в телесно-бытовое существование показывает доминирование физиологической потребности мужчины в женщине. Таким образом, исследователем обнаруживается трансформация семантики архаического мотива поиска мужчиной женщины, отражающая изменения концепции любви в сознании современного героя.
В. маканин, "андеграунд, или герой нашего времени", современная русская проза, мотив, любовный сюжет, вариативность
Короткий адрес: https://sciup.org/147226909
IDR: 147226909 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-2-92-101
Текст научной статьи Мотив поиска женщины в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени"
жизни. Альтернативой брачным прилюдным обрядам считается тайный – похищение, обряд, который вызван либо запретной, но взаимной любовью, либо единоличным желанием обладания. Иной генетический источник мотива поиска женщины – обряд инициации героя [Мелетин-ский, 2001: 42], в котором достижение цели (женитьба) демонстрирует готовность мужчины к жизни в роде, к устройству жизни.
Поиск мужчины определяется вариативностью женских типов (архетипов, в интерпретации психологов Г. Бедненко [Бедненко 2005], К. Эстес [Эстес 2000]), обусловленной физиологическим циклом (Дева – Женщина – Старуха) и социальной ролью женщины (юная дева, жертва, хозяйка, верная супруга, муза и др.).
В аналитической психологии поиск мужчиной женщины объясняется проявлением бессознательного эроса и становится стимулом развития индивида [Фрейд 1999: 221]; «либидо» может «сублимироваться», преобразовываться в разные формы деятельности. З. Фрейд выделял два типа любви [Фрейд 2012: 174]: нарциссический – поиск в Другом сходства (любит в Другом себя) и аналитический (греч. anaklinо – «опереться на кого-либо»), когда человек ищет проявления заботы, поддержки. Причина поиска мужчиной женщины вызвана не только сексуальным желанием или потребностью в продолжении рода, но и необходимостью в чувственном контакте с Другим. Поиск Другого – способ преодоления одиночества (по М. Хайдеггеру, выход за пределы «Dasein»).
В художественной словесности ситуация поиска женщины мужчиной закрепилась в любовном сюжете [Бахтин 2000; Протопопова 2001; Тамарченко 1997]. Изображение любви как силы рока, провидения сменяется пониманием любви как индивидуального влечения, курьезного случая. В литературе нового времени любовный сюжет, по сути, не направлен на раскрытие психологии персонажей. Роман, воспроизводящий незавершенность жизни, «растворяет» любовную ситуацию в потоке множества коллизий. В сюжете романа любовная ситуация предоставляет персонажу возможность внутреннего изменения; в русской классической литературе любовный сюжет – это, как правило, испытание героя (см.: Н. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous», 1858), его неспособность пройти «испытание любовью» [Чернышевский Т. 3, 1974: 135] оценивается как слабость жизненной позиции. Для героя русского романа любовь существует в идеальном воплощении, идеализация любовного чувства превращается в «мазохистский импульс» [Большев 2013: 160], побуждая реальное чувство оценивать как пошлость.
В ХХ в. изображение любви деидеализирует-ся, связывается не столько с чувственными, сколько с физиологическими проявлениями, а любовный сюжет сводится к фиксации поведенческих стереотипов даже в сфере частной жизни.
В прозе «сорокалетних», объединенных обращением к неличностному существованию человека городской цивилизации (1970–1980-х гг.) (см. о них: [Бондаренко 1990; Латынина 1983]), любовные ситуации не становятся событием жизни ни для субъектов, ни для объектов, не меняют образа жизни индивидов, остаются «отдушиной» в «полосе обменов» (определение В. Маканина). «Самотечность жизни» (определение В. Маканина) снимает значение любви как онтологически или экзистенциально значимого переживания: встречи с женщиной открывают не возвышенные, не духовные, а обыденные, повторяющиеся отношения. Стереотипность отношений с женщинами современного человека констатируется как нечто типичное, она не подвергается авторской критике, но и не ограничиваются констатацией.
Исследуя психологию и поведение персонажей, В. Маканин постоянно обращается к ситуациям взаимоотношений мужчины и женщины, повторяя и варьируя сюжеты, вскрывая модель поведения современного человека. Сюжет блуждающего героя и ищущего встречи с Другим появляется в повести «Валечка Чекина» (1974), в повести «Отдушина» (1979) этот поиск сводится к связи с женщиной для преодоления « суеты и тщеты <…> судьбы или жены » [Маканин 1990: 125] и как возможность « расслабить ноги », спрятаться от « дневного гона ». В романе «Один и одна» (1987) поиск мужчиной женщины оборачивается «неузнаванием» людей, «замкнутых в кругу книжных представлений» [Латынина 1987: 179]. В рассказе «Гражданин убегающий» (1984) ситуация поиска перевернута бегством «восточносибирского Дон Жуана» от «случайных связей» [Амусин 2007: 197]. И все же ситуация поиска женщины в прозе В. Маканина трансформирует бытовые коллизии (измены или увлечения) в универсальные, обнаруживая подмену природы и женщины, и мужчины, поскольку оба готовы к недостижению цели или компромиссу.
Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) прочитывается, прежде всего, как роман о «потерявшем веру в свое призвание писателе» [Ефимова 2012: 181]; о «герое-отщепенце» [Семикина 2008: 121], который обнаруживает «подмену жизни квазижизнью» [Рыбаль-ченко 2002: 101]; как роман о том, что реальная жизнь подменяется текстами, освобождающими от чувств, «превращая человека в соглядатая жизни» [Рыбальченко 2002: 101].
В. Маканин акцентирует телеологичность и «текстовость» поведения героя с женщиной, что означает не следовать органическому влечению, а строить «сюжет» отношений, соотносимый с сюжетами литературы. Литературоведы (К. Шилина [Шилина 2005], Т. Климова [Климова 2010], Р. Семыкина [Семыкина 2008]), исследуя ассоциативный фон романа, выделяют опору В. Маканина на классические сюжеты преступления и покаяния, дуэли, смерти маленького человека; в любовном сюжете отмечают традиционное для классической русской литературы влечение героя «к униженной, оскорбленной женщине» (Ф. М. Достоевский). Обращение к классическим сюжетам вызвано не только сознанием персонажа-писателя, но и стратегией автора расширить горизонт интерпретации современных коллизий, вывести их в антропологическое измерение.
Мотив поиска женщины в русской литературе восходит и к западноевропейскому сюжету Дон Жуана, коды которого отчетливо проявлены: от поиска идеала (у А. С. Пушкина) [Гуковский 1965; Ахматова 1990; Бабанов 1996] до имморализма индивидуальной страсти (литература начала ХХ в.) [Михиенко 2001; Онорин 2010]. Нельзя не отметить и трактовку Дон Жуана как символа потерянного поколения (А. Блок «Шаги Командора», 1912), как «символа беспредельной страсти-стихии» у М. Цветаевой [Михиенко 2001: 12]. В. Маканин менее склонен показывать героя-идею и выбирает русский вариант сюжета о поиске женщины как Другого, способного быть спасением или стать объектом спасения.
Поиск женщины в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» воплощается на профанном уровне в удовлетворении природного влечения, в прагматической необходимости (бытовое «спасение»), но почти всегда герой романа ищет встречу с Другим сознанием. Встреча по-разному спасает, помогает сохранять свое «я» в условиях социальной и этической дезориентированности, однако не приводит к обретению смысла существования. Встреча не меняет способа существования, остается эпизодом потока жизни, что порождает повтор ситуаций встреч с другими женщинами, превращается в мотив, не движущий сюжетную коллизию. Повтор ситуаций поиска женщины главным героем поддерживается повтором подобных сюжетных ситуаций у персонажей второго плана. Наконец, романные ситуации соотносятся с классическими для русской литературы сюжетами спасения «униженной и оскорбленной женщины» (романы Ф. М. Достоевского), сюжетами испытания героя любовью (романы И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого и др.), показывают изменение в современном человеке.
Мотив поиска женщины в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» проявляется в «любовных» историях, кратких, случайных или более длительных, но не становящихся событием, не изменяющих ни образа жизни, ни сознания главного героя. В романе, с одной стороны, повторы варьируют событийные сюжеты длительных отношений главного героя с женщинами (например, сюжеты общения с Вероничкой, Лесей Дмитриевной). Их схема общая: 1) случайная встреча (без завязки поиска); 2) отношения, в которых герой выступает спасителем женщины; 3) взаимное психологическое отчуждение в продолжающейся близости; 4) уход женщины или самого Петровича; 5) периодические встречи-возвращения без иллюзий любви. С другой стороны, повторы выстраивают череду непродолжительных встреч Петровича с женщинами (например, истории общения с Зинаидой, Марусей и др.). Подобные кратковременные встречи, как правило, случайны, обусловлены прагматической целью (физической близостью).
Оба вида поиска связи с женщиной обнаруживают отсутствие духовной любви и даже власти природного эроса. Петрович предстает не только утратившим семейные связи, но и не вспоминающим о своей бывшей жене, что свидетельствует об отсутствии душевной травмы от утраты, как и о незначимости чувства к жене в прошлом. Безлюбовие существует в сознании Петровича как норма. Признание силы потока жизни (это «река с быстрым течением», по В. Маканину) определяет не только социальное поведение, но и интимную жизнь, как это свойственно человеку в прозе «сорокалетних».
Называя «поиск женщины» сюжетным мотивом, мы акцентируем значение архаической семантики традиционного мотива и ее трансформации в конкретных романных обстоятельствах. Герой В. Маканина не ищет буквально, а, бродя по коридорам общаги (жизни), встречает женщину, требующую помощи или готовую к помощи. Все встречи завершаются не соединением, не конфликтом, а расхождением, которое не вызывает душевной реакции у героя, убежденного в том, что нелюбовь – свойство жизни. Между тем повторяемость сюжетной ситуации (мотив в исходном значении термина) свидетельствует о поиске женщины как экзистенциальной потребности героя.
В сюжете центрального персонажа, Петровича, выделяются три фазы (три «семантических поля», по Ю. М. Лотману): фаза погружения в поток бытовой жизни («общажная» фаза) и тайного бунта («удара»); фаза раскаяния и сопротивления подавлению (лечение в психбольнице); фаза возвращения в поток жизни в изменившейся социальной ситуации, отказ от реванша и самоутверждения.
В центре первой фазы две встречи: с молодой поэтессой Вероничкой, ангажированной деятелями «перестройки», и со « стареющей » активисткой из прошлой жизни Петровича – Лесей Дмитриевной Воиновой (первая – третья части, главы: «Новь. Первый призыв», «Я встретил вас»). Вторая фаза изображает Петровича как нуждающегося в понимании и спасении и показывает два варианта спасения: встреча в « бомжатнике » с флейтисткой Натой и встреча с медсестрой Марусей в психбольнице (главы четвертой части: «Зима и флейта», «Палата номер раз», «Триптих: расставание»). Третья фаза (главы пятой части: «Черный ворон», «Писатель и его награда», «Один день Венедикта Петровича») восстанавливает прежнее положение героя в бытовом существовании без творчества, без любви, но с женщинами, удовлетворяющими телесные желания (Зинаида Агапкина и Ася Игоревна).
Повествователь отмечает, что в каждой фазе пары женщин дополняют друг друга; он связывает, например, Вероничку и Лесю Дмитриевну как дополняющие друг друга истории: « Случайный расклад тех дней: от любви к любви. Пойдя на демонстрацию по телевизионному призыву худенькой Веронички, я встретил там Лесю Дмитриевну » (Маканин 2003: 203)1. Случившуюся в прошлом любовную связь с Вероничкой Петрович вспоминает как подлинное чувство, которое он впервые испытал: « Сердце сделалось тяжелым <…> Сердце – как огромное ржавое болото со стрелками камыша, с осокой, с ряской и с бесконечной способностью вбирать, заглатывать в себя. В него (в болото) можно теперь бросать камни, сливать химию, наезжать трактором, загонять овец – все проглотит » (36).
История отношений с Лесей Дмитриевной связана отчасти с желанием Петровича повторить (построить сюжет) ту эмоциональную связь, которую он испытал в физической связи с Вероничкой. Другая пара женщин (Маруся и Зинаида) дает варианты спасения именно через погружение в телесную стихию жизни. Обе героини наделены архаической сказочной функцией дарительницы или чудесной помощницы: медсестра Маруся дарит пробуждающий чувственность Эрос, Зинаида, общажная спутница Петровича, навещает его в психбольнице, помогает ему вернуться в общагу.
Первая фаза показывает существование персонажа в потоке, «самотечности» жизни, который занимает положение наблюдающего и фиксирующего явления жизни. Мотив поиска женщины в первой фазе доминирующий. На бытовом уровне это рассматривается как использование возможностей, предоставляемых обстоятельствами, случаем, а также как проявление самоумаления Петровича: не завоевание женщины, а расчет на ее благосклонность.
Роман начинается с череды бытовых встреч Петровича с «общажными» женщинами. В подобных встречах всегда есть характер временной сделки. Эрос обменивается на договор о сокрытии тайны женщины, в чем видится не столько спасение, сколько неагрессивный шантаж: прикосновение к « пышной » женской груди, в обмен за которое следует молчание об измене женщины мужу (история Курнеевой в главе «Коридоры» части первой); или, наоборот, побуждение женщины на ложные показания в ответ на близость с Петровичем (история Сестряевой в главе «Кавказский след» части второй).
С другой стороны, постоянные блуждания в коридорах общаги в поисках женщины, подслушивание интимных шорохов из чужих комнат «молодят» героя (« В пятьдесят с лишним лет на ночь глядя следует читать <…> разве Хайдеггер не лучше, чем вот так шастать. Но иду. Постепенно кураж нарастает, он и она !» (19). Коридорные блуждания открывают не сексуальную озабоченность Петровича, а влияние литературных сюжетов, поскольку случайные встречи с женщинами напоминают ему авантюрный любовный роман с чередой измен, любовных треугольников, над которыми он иронизирует: « Треугольник в наши дни так же естествен, как водка, бутылка на троих » (35), оправдывая куртуазный сюжет негласными правилам общажной жизни: « <...> если накрыл жену с кем-то, она сразу вам обоим бутылку на стол. Чтоб разговаривали и разбирались за водкой. Чтоб не сразу до крови » (139). В первой части романа выстраивается ряд встреч с замужними женщинами-хозяйками: Татьяной Савельевной, Агапкиной, Жигалиной, – сводимыми к взаимовыгодным отношениям (покраска гаража, просматривание за оставленными хозяйками «кв. метрами»).
Выявляется не власть либидо, не интерес писателя, а глубоко скрытая «озабоченность» существованием Другого. В Другом не ищется аналогия собственной заброшенности, одиноче- ства, напротив, в Петровиче живет вина перед Другим, что доказывает справедливость хайдег-геровского положения «присутствие человека как таковое виновно» [Хайдеггер 2013: 285]: «я вглядывался в лица припозднившихся женщин, ища среди них с лицами, так сказать, пожалостней, понесчастней. Подтрунивал над собой, но искал» (131). В. Маканин не связывает это чувство с конкретной виной перед женщиной, скорее ему присуще понимание эфемерности чувств, их неподлинности, текучести, хотя каждый человек наделен потребностью в Другом; каждый находится не столько в поиске идеала в альтернативном существе, женщине или мужчине, сколько под влиянием потребности в Другом, на опыте убедившись в невозможности соединения с Другим.
Символичен бытовой эпизод, который превращается в притчу о невозможности соединения мужчины и женщины, – случайная (как всегда у В. Маканина) встреча Петровича в купе поезда с незнакомой замужней женщиной. Тайное интуитивное и целомудренное влечение реализуется в жесте – контакте рук, но профанная причина (« маленькая многоногая среднеазиатская тварь » (101) на руке) разрушает феномен чувственного соединения. Важно семантическое выделение этого эпизода автором: брат Веня, лишенный физиологических и прагматических связей с женой и женщинами, просит Петровича рассказывать этот эпизод как подтверждение наличия некоей нефизической, эротической связи между мужчиной и женщиной.
Зрелый Петрович ситуацию поиска мужчиной женщины переводит в другое «семантическое поле» притчи « о блуждающем мужчине ». В ней утверждается невозможность встречи не с идеалом, а с необходимой частью (половиной) бытия человека. Мужчина не столько ищет, сколько блуждает в желании женщины: « чижик-пыжик » (20); женщина, « вживаясь в пространство », ждет. Петрович в притче констатирует непредсказуемость, неизбирательность и безрезультатность встречи « он и она »: « Мужчина сам по себе и тем сильнее сам понимает, что он-то никак не меняется в продолжающемся волчьем поиске » (20). Безлюбовность принимается им как подлинность жизни, тогда как повторяющиеся, следующие одно за другим отношения с женщинами, параллельные истории его жизни в «мужской» реальности свидетельствуют о природнодуховной интенции к Другому вопреки жизненному опыту.
Поэтому в череде банальных общажных связей, а особенно в сюжетно развитых «историях»
общения Петровича с женщинами, очевиден скрытый мотив тяги к женщине, именно к слабой и униженной женщине. В этом проявляется архетипическая сущность мужчины, не только завоевателя, но и защитника женщины. Однако герой В. Маканина следует литературному коду: поиск слабой женщины направлен на восстановление ее места в жизни, на ее спасение. Помощь Другому оправдывает собственное существование героя, его статус «сторожа». Трудно говорить о любви как о духовном влечении, но нельзя сводить такие истории к физиологии, природное чувство имеет телеологическое основание в сознании Петровича.
Аналог любовного сюжета – история отношений Петровича и поэтессы Веронички (глава «Новь. Первый призы»). В ней дискредитируется и сентименталистский сюжет влечения к женщине, и сюжет спасения погружаемой в порок женщины (сюжеты Ф. М. Достоевского). Изменяется убежденность Петровича в миссии спасения « опустившейся (к тому же обиженной, жалкой) женщины » от « среднеазиатских людей », пытавшихся совершить насилие; помощь в лечении воспалившихся ушей и разбитых коленок (« записывал и перезаписывал ее к врачу » (37)).
Далекая от реальности поэтесса в андеграундном прошлом творила «изящные верлибры, схожие стилистикой и формой с японскими пяти- и трехстишиями. Обрусевшие танки, говорила она с улыбкой…» (45), фиксируя моменты текучей красоты жизни («На лужах <…> пузыри – / Веселые дети дождя» (38); «Но выражен звук, / Но падают капли» (42)). В событиях настоящего случайна встреча Петровича с Вероничкой (увидел ее телевизионное обращение) дает толчок воспоминаниям о непродолжительном романе, не волнению, а рассуждениям о «трех китах» любви; о социальных метаморфозах, превращающих «пьянчужку» и поэтессу с «заквасом на политике» (32) в «маленького звонкоголосого политика с челкой на брови» (31). Схема сюжета отношений устойчиво трехчастна: 1) случайное знакомство, в котором Петрович спасает женщину; 2) «любовь в суровой общажной комнате», наполненная литературными разговорами; 3) немотивированное расставание, преобразованное стараниями Веронички в празднество с «вином», «гвоздиками», «праздничным столом»: «…От-толкнуться от дна и начать всплывать! <…> (Петрович – как глиняное дно или песчаное?)» (39). Петрович снова убеждается в текучести чувств, изменяемых потоком жизни. Он не страдает, потому что именно в краткости чувств за- ключается подлинность. Чувства переадресуются новому предмету в потоке жизни, который неизбежно даст новые встречи.
В сюжете настоящего, когда Вероничка используется в интересах нового социума, Петрович в отношениях с ней продолжает миссию ее спасения, и она периодически возвращается к нему за сочувствием и поучением, чтобы снова оказаться в жизни, которую она яростно защищает. Сюжет бессобытиен, т. е. не меняет положения персонажей, лишен финала, становясь серией «отдушин» для Веронички.
История отношений Петровича и Леси Дмитриевны Воиновой (глава «Я встретил вас…»), вписываясь в сюжет спасения, не может трактоваться как любовный, поскольку встреча реализует сюжет парадоксального отмщения добром прошлой гонительнице.
В советском прошлом Леся Дмитриевна была причиной изгнания Петровича из НИИ, поскольку ее идеологические убеждения не позволили ей быть терпимой к порочащему образ советского ученого « графоманству » Петровича, его текстам, очерняющим образ советского человека. Обвинительная речь молодой коллеги обрекла Петровича на публичное изгнание, « существование в андеграунде », которое принимается персонажем не как наказание, а как благо, лучшее, что с ним случилось: « Жить в андеграунде, остаться в андеграунде в самом конце века – неплохо, а?! » (321). Поэтому редуцирован мотив мести, но встреча с гонительницей проверяет этику Петровича в бытовых и приземленных телесных формах.
Встреча Петровича и Леси Дмитриевны случайна, на демонстрации он узнает бывшую коллегу из НИИ. Леся Дмитриевна не узнает Петровича и обращается к нему как к чуткому, способному выслушать ее говорение « о своих бедах » человеку. Свой внезапный инсульт Леся Дмитриевна объясняет с христианской позиции, как наказание грешницы. Следуя евангелическому сюжету кающейся грешницы, свои жалобы она обращает не к Петровичу, а к небу: « вступила в отчаянный торг с небесами », по ироническому комментарию Петровича. Петрович выбран как объект покаяния, удачная кандидатура: « неудачник, самолюбивый графоман, одетый в жуткие брюки, с разбитыми ботинками на ногах », поскольку покаяние слабому « войдет в более прочерченное культурное русло » (213).
Покаянные действия начинаются с приготовления вкусной пищи Петровичу: «она готовила борщ, иногда жаркое»» (206); с женского рукоделия: «брала иголку с ниткой: штопала мое дырье» (206); с физической близости, самой уни- зительной формы покаяния, поскольку Лесю Дмитриевну унижала постель с этим «грязным общажником», что проявлялось в физическом отторжении: «…как обычно ее рвало, характерные горловые звуки своеобразного покаяния – замаливания» (219), с бесшумных криков, повторяющегося ночного плача. Петрович, понимая, что он всего лишь «ничтожный старикашка» для женщины, тем не менее принимает ее игровое покаяние, ухаживает за больной, находит сиделку. Петрович нарушает свой принцип «удара», поскольку следует собственной этической позиции – не причинить вреда другому, более слабому человеку.
Выздоровление Леси Дмитриевны приводит к возращению ее положения « крупной и породистой » женщины в обществе. В новой ситуации потребность в покаянии у женщины отпадает и Петрович становится не нужен. Однако Петрович не принимает расставание как неблагодарность, следуя Экклезиасту: « время наносить раны и время жалеть » (363).
Писатель Петрович, проверяя классические сюжеты в отношениях с женщинами, пытается повторить их в собственной жизни, но не использует их для творчества, не пишет о любви. Вероничке Петрович высказывает свою позицию « не писания о любви »: « Что касается любви, продолжал я Веронике, мне (извини) хочется любить заплаканных женщин. Но не писать, же о них! Писать о любви – это всегда писать плохо. Скоропортящееся чувств о» (34). Петрович противопоставляет классической прозе, много места отдававшей любовным коллизиям, прозу А. Платонова, в которой нет « упоминания о любви », потому что проза Платонова подлинна. Дело не в отношении к способу описания любви, а в философской позиции Петровича, для которого «любви» не существует в истощенной реальности, остается физиология и одинокая бедность чувств («вещество существования», по А. Платонову), побуждающая помогать друг другу, согревать себя хотя бы телесно, как, например, в романе «Чевенгур» (1928), в котором Платоновым отношения мужчины и женщины изображены как асексуальные [Митина 2008: 85].
Во второй фазе романного сюжета главной ситуацией становится убийство. Повторяющееся преступление рождает потребность в выговаривании, оправдании собственной философии «удара» сюжетами русской литературы «мне бы выйти из моего сюжета». Убийства делают Петровича изгнанником: «Но общая на этажах встревоженность и страх, спешка меня изгнать – это был все-таки инстинкт… Это был пробудившийся инстинкт на чужого – защитный по сути инстинкт, перешедший (превентивно) в агрессию: в упреждающее желание от меня избавиться» (265) (часть третья, глава «Изгнание»).
В этой фазе важно обращение Петровича к женщине с ее природной готовностью к состраданию, сопереживанию, важна не интенция к спасению женщины, а потребность в спасении женщиной. Услышанное в пространстве ночлежного «дна» звучание флейты вызывает желание выговориться, раскаяться и в убийствах, и в идее «удара», которую он исповедовал. Мужчине снова нужна хрупкая женщина, носительница не телесной витальности, но душевной тонкости. Отношение Петровича к Нате – не любовь, а интеллектуальная и все же – прагматическая потребность очиститься: « я (с осознанно нацеленной мыслью вырваться из сюжета) уже предчувствовал женщину: уже поворачивался к ней » (276).
История флейтистки Наты соотносима с сюжетом Раскольникова и Сони Мармеладовой. Судьба Сони для Раскольникова – доказательство права на насилие над насильниками. В. Кожинов [Кожинов 1971] интерпретирует исповедь Раскольникова Соне как обращение к равному, к «переступившему» и поэтому способному к пониманию. Соня же отвергает «решения» Раскольникова, предлагая путь покаяния. Ната не преступает ради Других, но живет жизнью греха (без любви), скрываясь в мире звуков. Поэтому она не становится оппонентом Петровича, более того, ее положение униженной лишь подтверждает право на сопротивление «ударом». Однако пассивность Наты, как и ее музыка, «способствуют желанию раскрыться » (281), хотя Петровичу «… совестно на детский ее ум навалить свою беду » (там же). Отсутствие исповедника приводит к нервному срыву и признанию в преступлении против воли самого Петровича, в истерическом крике: «… к ночи я завыл. Этот приступ был стремителен, беспричинен. Я кричал и кричал » (284); « бессвязные фразы » о « погибающем человечестве », о невозможности « жизни вне Слова », о « ноже », о том, что « не хочет убивать » – это покаяние не перед Богом и не перед женщиной – только перед собой.
Развернутая в этой фазе сюжета парная истории с Натой – история задуманной и выстроенной Петровичем ради спасения от подавления сознания связи с медсестрой в психбольнице. Нацеленное разыгрывание Петровичем страсти к женщине показывает вновь вариант спасения в телесности, дающей забвение и оправдание ду- ховному кризису. В психбольнице сопротивляться от принудительного лечения, вызывающего ослабление личной воли и подчинение воле врачей, Петровичу помогает возвращение к мужской природе, эротическое влечение разыгрывается как альтернатива лекарствам, возвращающая инстинкты. В. Маканин не сводит отношения к физиологии, показывая возвращение к природной силе, витальности.
В романе доминирует профанное понимание героем женщины и «любви». Петрович одинаково воспринимает и семейный уклад, и адюльтер как быт, однообразные и утомительные отношения: « Жены, как водятся, тускнеют, бытовеют и разочаровывают. Любовницы лгут. Старухи напоминают костлявую » (20). Потребность в Другом притупляется, перерастает в физиологическую и материальную зависимость: пище, одежде, « кв. метрах ».
Но и нерегламентированные случайные отношения также приземленны и монотонны. В финальной фазе сюжета Петрович обращается к женщине как витальной силе уже не для себя, а для брата Вени, видя в женщине природную силу, способную пробудить сознание брата, подавленное психотропными препаратами. Однако не происходит преображения не только духовного, но и телесного: брат, « забитый, униженный, затолканный, в говне » (478), возвращается в лечебницу-тюрьму.
В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» ситуация поиска женщины мужчиной многократно повторяется как в истории персо-нажа-нарратора, так и в историях второстепенных персонажей: писатель Вик Викыч блуждает от одной женщины к другой; художник Василек Пятов ищет отощалые женские тела для натуры, чтобы запечатлеть мученический женский облик.
Поиску женщины Петровичем и людьми искусства как будто противопоставлена позиция жителей общаги, удовлетворенных телесной близостью. Однако отношения мужчин и женщин в общежитии сопровождаются супружеской неверностью, в которой тоже проявляется поиск женщины мужчиной и наоборот. Курнеев постоянно ищет в коридорах общаги свою неверную жену не для наказания, не из-за желания обличить ее, а из-за страха потерять ее.
В романе отсутствует как возвышенная любовь, так и власть чувственного эроса, свидетельствующая об инстинкте слияния с бытием. Зависимость мужчины от телесности жизни приводит к редукции духовной основы любви, но мотив поиска женщины восполняет экзистенциальную трактовку блужданий человека в поисках
Другого: ответ на «зов бытия» (готовность к любви-состраданию) и потребность быть услышанным (потребность в понимании) для оправдания своего существования.
National Research Tomsk State University
ResearcherID: V-1112-2017
Submitted 21.12.2017
In V. Makanin’s novel Underground, or Hero of Our Time (1998), the motif of seeking a woman determines the repetition of situations with encounters and stories of the central character’s relationship with women, as well as a system of plotlines and characters connected with seeking women. Love stories of the novel are based on the principle of repetition, twoness. There are three phases in the development of the central character’s love story. The first phase portrays the character in everyday life, where the search for weak, defenseless women means following the “call of being” (M. Heidegger), and is implemented in the story of salvation of women, where “care” about the other is a means used by characters to justify their own existence. In the second phase, crime (two murders) gives rise to the need for a woman having a natural ability for compassion, empathy (the story of salvation of men by women). In the final phase of the novel, the main character is absorbed with the everyday existence, physicality, and physiological needs of men in women are shown as prevailing. Based on ethical requirements of classic Russian literature, the protagonist of the novel brings his own changes: not love, but regret, care about the Other, not sacrificing, because sacrifice and help will not save. In contrast to the traditional interpretation of love as manifestation / non-manifestation of a person’s individuality or animality, in the novel V. Makanin puts emphasis on the main character’s (Petrvo-vich) desire to build the “story” of the relationship as an experiment on reality and as a way of interpreting it. Thus, the article reveals the transformation of the semantics of the archaic motif of seeking women by a man, which shows changes in the concept of love in the consciousness of the modern hero. The anthropological interpretation of encounters with women reveals the dependence of men on physicality / vitality of life, however, the reduction of the spiritual basis of love is compensated in the novel with the existential interpretation of a person’s wandering in search for the Other, as a response to the “call of being” needs to be heard.
Список литературы Мотив поиска женщины в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени"
- Амусин М. Не-юбилейное//Звезда. 2007. № 3. С.192-204
- Ахматова А. «Каменный гость» Пушкина//Ахматова А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С.111-126
- Бабанов И. Апология Дон Жуана//Звезда. 1996. № 10. С. 162-178
- Бахтин М. М. Эпос и роман. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. СПб., 2000. 304 с
- Бедненко Г. Греческие богини: Архетипы женственности. М.: Класс, 2005. 284 с
- Бондаренко В. «Московская школа», или Эпоха безвременья. М.: Столица, 1990. 272 с
- Гуковский Г. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. 355 с
- Ефимова Н. Жанр романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»//Вестник Московского университета. Сер. 9. 2012. № 6. С.179-186
- Климова Т. Притча в системе художественного мышления В. Маканина. Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2010. 252 с
- Кожинов В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского//Три шедевра русской классики/под ред. С. Краснова. М.: Худож. лит., 1971. С. 107-187
- Латынина А. Форма парадоксального//Литературное обозрение. 1983. № 10. С. 32-36
- Латынина А. Аутсайдеры: спор вокруг «лишних людей» современности//Октябрь. 1987. № 7. С. 178-184
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 285 с
- Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Вагриус, 2003. 478 с
- Маканин В. Рассказы. М.: Правда, 1990. 446 с
- Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 168 с
- Митина Н. Экология женщины в философской концепции А. Платонова//Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. 2008. № 3. С. 76-88
- Михиенко С. Эволюция образа Дон Жуана в русской литературе XIX-XX веков: автореф. дис.. канд. филол. наук. Пятигорск, 2001. 21 с
- Онорин В. Особенности интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX-XX веков//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 6. С. 139-142
- Протопопова Е. Античный любовный роман. М.: Лабиринт, 2001. 470 с
- Рыбальченко Т. Л. Судьба литературы в саморефлексии прозы конца ХХ века (Романы М. Харитонова, Ю. Буйды, В. Маканина)//Постмодернизм pro et contra: материалы Междунар. науч. конф. «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на рубеже тысячелетий» Тюмень: ТГУ-Вектор Бук, 2002. С. 94-103
- Семыкина Р. Локусы подполья в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»//Знание. Умение. Понимание. 2008. № 4. С. 87-92
- Семыкина Р. В матрице подполья: Ф. Достоевский, Вен. Ерофеев, В. Маканин. М.: Флинта, 2008. 195 с
- Тамарченко Н. Д. Русский классический роман Х1Х века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М.: РГГУ, 1997. 203 с
- Фрейденберг О. М. Связь брака с едой, борьбой и с шествием//Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра М.: Лабиринт, 1997. С. 73-75
- Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. Харьков: Фолио, 1999. 379 с
- Фрейд З. Семейный роман невротиков. СПб.: Азбука, 2012. 224 с
- Хайдеггер М. бытие и время. М.: Академ. проект, 2013. 460 с
- Чернышевский Н. Русский человек на rendezvous: размышления по прочтении повести Тургенева «Ася»//Чернышевский Н. Собрание соч.: в 5 т. Т. 3: Литературная критика. М.: Правда, 1974. С.133-156
- Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Проблема героя): автореф. дис.. канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 23 с
- Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 144 с
- Эстес К. Бегущая с волками. М.: София, 2000. 279 с