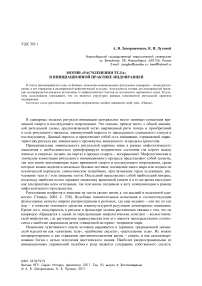Мотив «расчленения тела» в инициационной практике индоиранцев
Автор: Запорожченко Андрей Владимирович, Луговой Кирилл Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из базовых элементов инициационных ритуальных сценариев - мотив расчленения, и его отражение в индоиранской мифоэпической культуре. Актуальность мотива для индоиранской традиции подтверждается анализом источников от мифологических текстов до осетинского нартовского эпоса. Результаты исследования показывают, что он является структурно важным компонентом ритуальной практики индоиранцев.
Расчленение, инициация, возрождение, неофит, шаманизм, миф, эпос, "нарты"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737481
IDR: 14737481 | УДК: 392.1
Текст научной статьи Мотив «расчленения тела» в инициационной практике индоиранцев
В сценарных моделях ритуалов инициации центральное место занимает концепция вре менной смерти и последующего возрождения . Это связано , прежде всего , с общей динами кой ритуальной схемы , предполагающей четко выраженный ритм потерь и приобретений в ходе ритуального процесса , знаменующий переход от предыдущего социального статуса к последующему . Данный переход и представляет собой суть инициации , отражающей харак теристику ритуала как лиминального промежутка , выведенного за пределы хронотопа .
Принципиальная лиминальность ритуальной картины мира в рамках мифологического мышления с необходимостью трансформирует пограничное состояние ( на пороге между жизнью и смертью , ни жив , ни мертв ) в процесс ( смерть – воскрешение ). Мифологические и эпические коннотации ритуального инициационного процесса представляют собой сюжеты , так или иначе воплощающие идею временной смерти и последующего возрождения , среди которых можно выделить несколько базовых мотивов : посещение иного мира или подъем по космической вертикали , символическое погребение , проглатывание героя чудовищем , рас членение тела и / или лишение плоти . Последний представляет собой наибольший интерес , поскольку наиболее полно отражает символику временной смерти и в то же время выступает как альтернатива всем остальным , так или иначе сводимым к акту коммуникации в рамках мифологического пространства .
Расчленение неофитов и лишение их плоти сводит жизнь к « ее высшей и неделимой сущ ности » [ Элиаде , 2002. С . 238]. Подобные посвятительные испытания и соответствующие фольклорные сюжеты широко распространены в регионах , где еще недавно – или же до сих пор – в качестве основного средства социокультурной регуляции доминировал шаманизм . Кроме того , популярность в ритуале и фольклоре мотива расчленения связана с тем , что он напрямую обращается к одной из определяющих мифологических констант – космогониче ской мифологии , где расчленение первосущества или его аналога непосредственно соотно сится с наиболее сакральным актом « священной истории »: творением мира .
Изменение чувственного опыта человека выражается в терминах традиционной шаман ской идеологии как « сжигание тела », « разбиение скелета », « расчленение тела ». Их можно интерпретировать и как отражение противопоставления жизнь – смерть , и как самопожерт вование богам с целью получения мистического знания . Наиболее распространенными из инициационных упражнений подобного рода является созерцание собственного скелета .
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение © А. В. Запорожченко, К. В. Луговой, 201 1
Возможность видеть себя как скелет , т . е . после смерти , подразумевает , очевидно , символизм мистической смерти .
В шаманизме расчленение до скелета образует целый символико - ритуальный комплекс , центром которого является представление о жизни как постоянном обновлении . Подобные упражнения знаменуют выход из времени . Шаман не только предвидит собственную смерть , но и один знает вневременной источник жизни – кость , которая символизирует для архаиче ского сознания корень животной жизни , матрицу , на которой постоянно нарастает плоть . Со зерцая себя как скелет , шаман выходит из времени и приобщается к вечному источнику жиз ни [Eliade, 1975. P. 83].
В тантризме и ламаизме до сегодняшнего дня важную роль играет развитая практика медитации до образа собственного скелета или погружение в спиритуалистические упражне ния , совершаемые в присутствии черепов и других костей . В тибетской религии Бон посвя щаемый мысленно « раздевал » себя вплоть до скелета , а затем окутывал себя новой плотью и кровью . Подобные инициационные упражнения упоминаются и в средневековой тамильской поэме Манимехалей [ Жуковская , 1977. C. 165]. Активно использовалась подобная символика различными школами йогинов . Так , школа канпхата почитает в качестве своего основателя великого мудреца Горакхнатха , который передал свои знания ученикам через инициацию , в ходе которой он их убил , вычистил внутренности , а кожу повесил сушиться на дерево [ Элиаде , 1999. C. 360]. Сюда же относится классический факирский трюк с веревкой , в ходе которого тело ученика распадается на части , а затем восстанавливается вновь [ Там же . C. 374].
Изображение костей составляет характерную особенность костюмов шаманов . В мисте рии цам действующими лицами являются хохимои ( монг . череп , скелет ) – маски - скелеты , олицетворяющие промежуточное состояние между смертью и новым рождением [ Жуков ская , 1977. С . 165]. По мнению А . Я . Сыркина [1968. С . 8], в символике скелета , широко ис пользуемой в шаманских традициях всего мира , следует видеть снятие противоположностей живое – неживое ; это составляет также существенный момент содержания Упанишад [ Жу ковская . 1977. С . 168]. Подобные упражнения традиционно считались доступными только великим мудрецам , и неслучайно даже Будда , как описывает Ашваггхоша , вернувшись после просветления в Капилавасту , дабы убедить всех в своем духовном могуществе , взлетал в воздух , расчленял свое тело на части , а затем , позволив им упасть на землю , снова соеди нял их , как и раньше ( Буддхачарита XIX.12–13).
Конечно , нельзя ставить знак полного равенства между упражнениями шаманов и тибет ских лам , однако универсальность подобных обрядов , а также сходство техник говорят о восхождении к одному источнику . Тот факт , что подобная символика была обнаружена и у иранцев , дает возможность говорить о ее наличии уже в индоиранский период .
В рассматриваемом контексте интересно осетинское сказание о появлении у нартов музы кального инструмента фандыра . Завязкой этого сюжета служит похищение Сырдоном у Хамыца коровы , которой тот очень дорожил . Тогда Хамыц решил отомстить и узнал , где на ходится тайный дом Сырдона : « Хамыц очутился в доме Сырдона . Огляделся : в доме на ог не – котел . Заглянул в котел , а там варится мясо его коровы . У Сырдона было три сына , и они сидели вокруг котла . Хамыц схватил их и всех троих бросил в котел ». Далее события разви вались следующим образом : « Сырдон вбежал в дом , смотрит по сторонам и не видит никого из сыновей . Помешал в котле , и всплыли части тел его детей : голова одного , нога другого , рука третьего . Вернулся в свой угол , взял двенадцатиструнный фандыр и сел в резное кресло . Ударил по струнам фандыра и запел » [ Нарты , 1989. С . 206–207].
Прежде чем анализировать этот сюжет , целесообразным представляется привести часть автобиографического рассказа одного сибирского шамана . « Больной оспой , этот будущий шаман три дня оставался без сознания , почти мертвым , так что на третий день его ошибочно похоронили . Он видел себя спускающимся в Ад , где повстречал голого человека . Человек этот схватил его , отрезал ему голову , а тело расчленил на маленькие куски и бросил в котел . Когда он очнулся в юрте рядом со своими , он был посвящен и стал шаманом » [ Попов , 1936. С . 84]. Параллелизм сюжетов несомненен . Остается убедиться , что осетинский текст дейст вительно имеет в своей основе комплекс представлений , связанных с шаманской ини циацией .
Если в качестве объектов посвятительного ритуала выступают дети Сырдона , то субъек ты – Хамыц и сам Сырдон . Образы и Хамыца и Сырдона в контексте инициационной мифо логии можно трактовать как « высшие существа », которыми проводится посвящение . Если роль Хамыца в осетинском сказании очевидна – он расчленяет тела неофитов , т . е . несет им временную смерть , то для понимания роли Сырдона необходимо обратиться к сравнитель ному материалу . Е . М . Мелетинский [1979. C. 42], исследуя мифы палеоазиатов , среди про чих вариантов образа трикстера - Ворона выделяет следующий : « создатель бубна и автор за клинания , который лечит своих детей , тем санкционируя и придавая силу шаманскому заклинанию ». Сырдон , аналогично Ворону , изготавливает музыкальный инструмент – не сомненно , для излечения / оживления своих детей . Данный мотив инициационной мифоло гии был пересемантизирован героическим эпосом , сюжету придана эпическая драматич ность , и в результате сыновья Сырдона так и не были оживлены . Но использование сравнительно - мифологического метода не оставляет сомнений в том , что сказание о краже у Хамыца коровы и появлении у нартов фандыра имеет самое непосредственное отношение к инициационным ритуалам .
С расчленением тела неофита связан еще один мотив нартовского эпоса . « Отошел на вы стрел сын Хамыца Батраз , раскрыл рот , стоит , ждет . Пустил стрелу старший из братьев Бора та : стрела попала в рот , и Батраз поймал ее зубами . Пустил стрелу и второй из братьев . И вторую стрелу Батраз поймал зубами . Так стрелы всех семи братьев попадали в рот нарту Батразу , и все стрелы нарт Батраз поймал зубами » [ Нарты , 1989. С . 281].
Этот мотив , который можно назвать « стрельба по живой мишени », имеет параллели в эт нографической реальности : « в целом испытания , которым подвергались юноши в разных районах региона , были однотипными . Но существовали и особые их виды . У цезов юношу сажали на деревянную мишень , а опытные стрелки стреляли по ней . Стрельба могла вестись и по небольшим палочкам , которые вставляли между пальцами руки испытуемого [ Карпов , 1996. С . 20]. Связь с инициационными ритуалами здесь очевидна .
Лишение неофитов плоти и последующее возвращение их к жизни – существенный мотив инициационных ритуалов , отражающий символику временной смерти . Этот мотив особенно распространен среди обществ , чья хозяйственная и культурная жизнь связана с охотой . « Превращение тела в скелет , сопровождаемое рождением новой плоти и крови , – такова спе цифическая для охотничьей культуры тема посвящения » [ Элиаде , 2002. С . 184]. Связано это с тем , что скелет – не важно , человека или животного , – воспринимается традиционной куль турой как основа жизни , с которой начинается бытие в плотском мире , и которой оно закан чивается . Можно говорить об определенной « идее » скелета в сознании архаического челове ка , которая на материальном , предметном уровне воплощает комплекс представлений о начале и конце . Не случайно в космогонической мифологии из скелета первосущества создаются горы – « кости земли », т . е . основа , на которую опирается весь мир . При этом ске лет – это еще и промежуточная стадия между прошлой и будущей жизнью , своеобразный залог грядущего возрождения . М . Элиаде [1998. С . 156] отмечает : « животные и люди возро ждаются , начиная с кости ; некоторое время они пребывают в плотском существовании , и , когда они умирают , их “ жизнь ” концентрируется в скелете , на основе которого они возро ждаются ».
Ф . Жинью проанализировав значение выражения « костная душа » и « костное тело » в аве стийской и пехлевийской традициях , пришел к выводу о существовании у древних иранцев особой « костной души », в которой находится квинтэссенция жизни . Грядущее возрождение начнется с нового покрытия плотью , сохранившихся в целости костей [Gignoux, 1979. P. 67].
Наличие особого отношения к костям в древнем Иране подтверждается и похоронными обрядами . Вендидад (6.49–51) предписывает : « необходимо сделать вместилище для костей , чтобы они не были унесены собаками или волками , кров от всех напастей ». Такие обряды направлены на сохранение всех костей скелета в порядке , чтобы ни одна кость не была утра чена ко дню возрождения . Иранская традиция говорит о повторном окостенении , с помощью которого человек может возвращаться к жизни , так как кости и дух есть два главных элемен та жизни . Для возрождения требовались не только кости , но то , что они упоминаются пер выми , свидетельствует в пользу их высокого места в иранской иерархии жизненных элемен тов [Ibid].
Особое отношение к костям было свойственно и восточно - иранским племенам . Геродот упоминает об обычае массагетов варить умершего и поедать его плоть [ Доватур и др ., 1982. С . 93]. Сущность таких обрядов заключается в скорейшем освобождении костей от плоти , что должно способствовать быстрейшему их возрождению . В Иране подобным целям слу жили обряды выставления тела умершего на съедение собакам и птицам . Такие обычаи были распространены у многих ираноязычных народов : гирканцев , каспиев , парфян , согдийцев и бактрийцев . На территории Хорезма многочисленны находки оссуариев : ритуальных сосу дов , предназначенных для хранения очищенных костей . Можно согласиться с Ю . А . Рапо портом [1971. С . 23], что « истоки подобных обрядов следует искать не в зороастрийской догматике , а в тех более ранних верованиях ираноязычных народов , которые иногда называ ют маздеизмом , а , возможно , и в первобытных верованиях , предшествующих им ».
Наличие подобных идей уже в индоиранский период подтверждается и упоминанием в Ригведе обряда выставления , а также обычаем захоронения костей у деревьев или на них [ Культура древней Индии , 1975. С . 89]. Помещение мертвых тел на ветвях деревьев описы вается в Шатапатха Брахмане (IV.5.2.13), причем речь идет об инициированных мудрецах [ Пандей , 1982. C. 314].
Неудивительно , что традиционные культуры воспользовались таким чрезвычайно бога тым значениями образом и , прежде всего , включили его в структуру инициационных обря дов , где именно символика смерти и воскрешения играет ключевую роль . В этот сценарный план замечательно вписывается популярный сюжет нартовского эпоса об оживлении героя ми скелета великана : « Сослан и череп великана » [ Нарты , 1989. С . 451–454], « Как по мольбе Батраза оживился богатырь - великан » [ Там же . С . 454–455]. Структура сюжета здесь типична : наличия скелета оказывается вполне достаточно для возвращения великана к жизни . Но эпи ческий контекст в данном случае предлагает инверсию ритуальной практики – временной оказывается не смерть , а жизнь воскрешенного существа , поскольку , в конце концов , плоть с костей исчезает , и великан вновь превращается в скелет .
С мотивом расчленения тела генетически связаны физические ограничения : закрывание глаз / лица ( ритуальная слепота ), запрет на связную речь или делегирование коммуникатив ных функций ритуальному заместителю ( ритуальная немота ), запрет на свободное передви жение и / или определенные , обычно знаковые , виды деятельности ( ритуальная неподвиж ность ), которыми внешне маркируется лиминальное состояние неофитов . В нартовском эпосе также встречаются мотивы ритуальной слепоты , немоты и неподвижности в качестве варианта распространенного в традиционных культурах представления о слепоте , немоте и неспособности к чувственному восприятию или передвижению как первичных признаках смерти [ Байбурин , 1993. С . 106] или , что имеет особенный смысл в контексте инициацион ных ритуалов , временной смерти . Инвариантом таких примет выступает одноногость и од норукость мертвых и , шире , представителей Иного мира – « вторая их половина остается в мире ином и поэтому для восприятия живущими в мире этом остается недоступной » [ Ми хайлова , 2002. С . 23].
Сюда же относятся телесные повреждения, которыми отмечается изменение социального статуса посвящаемых, где идея ритуальной нецелостности воплощена наиболее зримо. Среди таких распространенных вариантов, как обрезание у мужчин, усечение клитора у женщин, татуирование, удаление зубов, протыкание ушей, нанесение различных ран и порезов, выделяется обривание головы, чему в нартовском эпосе посвящен отдельный эпизод из цикла о молодости Батраза («Урызмаг, Созырыко и Хамыц») [Нарты, 1991. С. 57]. До сих пор исследователи, анализируя данный эпизод, акцентировали внимание преимущественно на магическом аспекте обривания головы [Там же. С. 56]. Но магическая составляющая представляется вторичной и, в определенной степени, подчиненной основному смысловому блоку – непосредственной связи эпического текста с инициационным ритуалом. С одной стороны, обривание головы имеет тот же символический смысл, что и смена имени, одежды и т. п. по завершении обряда. Новый внешний облик, видимый всеми, является маркером нового социального статуса. Помимо этого, как отмечает Э. Лич [2001. С. 75], «обривание головы имеет ту же специфическую особенность, что оно обратимо: волосы опять вырастут после того, как они были срезаны, так что они особенно подходят в качестве метафоры переворачивания социального времени, что предусматривается обрядами перехода». С инициацией данный эпический сюжет объединяет также локус, который герой покидает в процессе возвращения к социуму, и запрет говорить с ним, пока он совершает путь из моря к нартам. Последний, в свою очередь, на ритуальном уровне равен пути от места проведения обряда к племени, от бесструктурности к структуре. Мотив же бросания сбритых волос в воду, помимо очевидно магического значения, несет в себе и ритуальную нагрузку: эти волосы, на предметном уровне воплощающие старый статус, отдаются воде (т. е. Иному миру), что делает акт инициации необратимым.
К тому же семантическому ряду ритуальной нецелостности можно отнести мотив калече ния во время танцев , имеющих отчетливо ритуальный характер , и , по - видимому , отразивший в героическом эпосе танцевальные соревнования молодежи во время обряда посвящения . Здесь можно предположить перенесение аспекта одноногости , однорукости с собственно ге роя обряда на эпического антагониста (« Батраз и сын алдара , живущего на холме ») [ Нарты , 1989. С . 243]. Связь этого мотива с концепцией телесной неполноценности представителей Иного мира подтверждается , в частности , якутским этнографическим материалом , где одно - ногость и т . д . демонов - абаасы соотносится исследователями с характером якутских игр , « включающих разнообразные состязания в прыжках на одной ноге » [ Хэтто , 1993. С . 174]. Возможно , этот же мотив проявился в сюжете , связанном с так называемыми « играми Созы - рыко ». « Созырыко пошел к родственникам матери в Чецау и там обучился каким - то хитро стям , стал сильнее , чем прежде . А когда вернулся оттуда , сила его выросла еще больше . Тем , с кем играл , кому руку отрубал , кому ухо отрубал , кому нос отрубал , так вот и увечил лю дей » (« Сказание о нарте Созырыко ») [ Нарты , 1991. С . 135]. Исследуемая тема проявляется здесь достаточно ярко , что позволяет уверенно провести параллель между концептами физи ческой неполноценности вообще и расчленением тела в частности в контексте ритуальной инициационной культуры .
Таким образом , мотив « расчленения тела » является структурно важным содержательным компонентом архаической инициационной практики , где он воплощается на самых разных уровнях культурной традиции – от мифологических текстов до эпических сказаний , высту пая интеллектуальной и сценарной базой для разнообразных религиозных манифестаций .
MOTIF OF «DISMEMBERMENT OF BODY»
IN THE INITIATION PRACTICE OF THE INDO-EUROPEANS