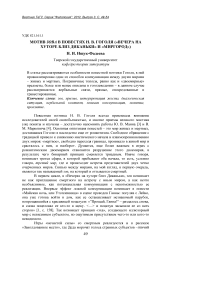Мотив зова в повестях Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»)
Автор: Ищук-Фадеева Нина Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности повестной поэтики Гоголя, в ней проанализирован один из способов коммуникации между двумя мирами – живых и мертвых. Пограничные топосы, равно как и «двоемирные» предметы, более или менее описаны в гоголеведении – в данном случае рассматриваются вербальные связи, прямые, опосредованные и травестированные.
Зов, призыв, интерпретация жеста, диалогическая ситуация, вербальный контакт, мнимая коммуникация, молитва, проклятие
Короткий адрес: https://sciup.org/146121021
IDR: 146121021 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Мотив зова в повестях Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»)
Повестная поэтика Н. В. Гоголя всегда привлекала внимание исследователей своей своеобычностью, и многие приемы великого мистика уже поняты и изучены – достаточно напомнить работы Ю. В. Манна [3] и В. М. Марковича [4]. Основная оппозиция повестей – это мир живых и мертвых, доставшаяся Гоголю в наследство еще от романтизма. Свободное обращение с традицией привело к снижению мистического начала и взаимопроникновению двух миров: «мертвое», свободно переходя границы, проникало в живой мир и срасталось с ним, и наоборот. Думается, еще более важным в играх с романтическим двоемирием становится разрушение этого двоемирия, в результате чего бинарный принцип сменяется триадным. Иначе говоря, возникает третья сфера, в которой пребывают оба начала, то есть, условно говоря, третий мир , где и происходит встреча представителей двух четко очерченных миров. Связью между мирами, на мой взгляд, в первую очередь, является так называемый зов , на который и отзывается смертный.
В первом цикле, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», зов возникает не как приглашение смертного на встречу с иным миром, а как нечто необъяснимое, как потенциальная коммуникация с невозможностью ее реализации. Впервые эффект ложной коммуникации возникает в повести «Майская ночь, или Утопленница» в сцене проводов Ганны: погуляв с Лейко, она уже готова войти в дом, как ее останавливает незнакомый парубок, попрощавшийся с красавицей поцелуем: «”Прощай, Ганна!“ – раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку. <…> и поцелуи засыпали ее со всех сторон» [1, с. 158]. Так возникает принцип «эха», создающего иллюзорный мир с невидимым субъектом, но ощутимым присутствием чего-то или кого-то невидимого.
Игры «нечистой силы» со смертным реализуются и в рассказе «Заколдованное место», где Деда морочат голоса странных субъектов –птичий нос, баранья голова и медведь. Иначе говоря, повтор слов Деда не есть зов в собственном смысле слова, но он – знак присутствия непознанного: эхо, продлевая слова Деда, отчуждает носителя от его речи, присваивая его фразу изначально невербальным персонажам. Таким образом, в данной ситуации слово есть не зов, но знак иного мира, способного передразнивать, что травестирует тем самым зов как таковой.
Циклообразующим началом почти всех фабул становится ситуация между жизнью и смертью, связующим звеном может стать не звук, а особый знак, воспринимаемый тем не менее «пограничным» героем однозначно. Так, встретив сбежавшую кошечку, но не сумев удержать ее, Пульхерия Ивановна («Старосветские помещики»), после некоторых размышлений, поняла, что это смерть за ней приходила. Домашняя любимица прибежала из дикого леса и убежала в «чужой» мир, и путь ее хозяйки, как та поняла, тоже лежит в иной мир. Невнятный для супруга, для Пульхерии Ивановны этот знак был очевиден – и она приняла его. В этой ситуации странно все: и как героиня «прочитала» беззвучный знак, и то, что его носителем стала кошечка, которая сама – в мире Гоголя – есть знак ведьмы. Как связаны благочинная, мирная Пульхерия Ивановна и ведьма, сюжет не проясняет, но для героини, привыкшей жить с кошечкой, знак ее ухода воспринимается как невербализованный «зов».
Повесть об украинских Фелимоне и Бавкиде выстроена парадоксально: тихая, пугающаяся любых знаков внешнего мира старушка жила между неверной Явдохой и серой кошечкой, сохраняя в себе все подлинно живое. Второй парадокс связан с посмертным «бытием» Бавкиды: всю жизнь посвятив мужу, Пульхерия Ивановна сделала все, чтобы ее Фелимон почти не ощутил ухода своей верной подруги. Но ее предсмертная воля не была исполнена, и Афанасию Ивановичу пришлось не только пережить смерть своей любимой супруги, но и увидеть умирание того мира, который так любовно создавала его жена. Финал этой пасторали жанрово неадекватен, интерпретации возможны самые разные, но мне представляется весьма убедительной версия неправильно понятого зова. Убежавшая к диким, но романтическим отношениям кошечка создала пустоту, осмысливая которую Пульхерия Ивановна решила, что это приглашение к ее «побегу» тоже, хотя мотивация подобного решения сюжетно не дана. Но именно ее решение – уйти первой – разрушило миф о преданных и любящих супругах, умерших в один день. Разрушение «старого света» стало проверкой истинности ее интерпретации – «знак» был понят неверно.
Связь с потусторонним миром ощутил и Афанасий Иванович, когда сам оказался адресатом «послания»: «…с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: Афанасий Иванович! Он оборотился, но никого совершенно не было, посмотрел во все (здесь и далее выделено мной – Н. И.-Ф.) стороны, заглянул в кусты – нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался; лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: “Это Пульхерия Ивановна зовет меня!“ Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. <…> Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя. “Положите меня возле Пульхерии Ивановны“, вот всё, что произнес он перед своею кончиною» [2, с. 37].
Эта сцена дает блистательный пример использования Гоголем похожего приема в разительно несхожих ситуациях – я имею в виду звучание слова при невидимом субъекте речи. В «Вечерах…» этот прием носил комедийный характер и был зн а ком «заколдованного места». В «Старосветских помещиках» невидимость произносящего носит мистический характер – это не сам иной мир, но зов из него, свидетельствующий о близости двух миров. Наконец, воля к смерти, почерпнутая у близкого, но умершего человека, и есть знак любви после смерти.
Итак, жизнь после смерти осуществляется через слово – это молитва и проклятие. У Гоголя первое в повестях представлено в виде предсмертного слова, которое становится чем-то вроде пропуска в рай, как, например, в «Тарасе Бульбе»; зато слово, продлевающее жизнь за ее порогом, встречается не единожды, при этом если в «Вечерах…» весь сюжет «Страшной мести» строится на реализации последней воли умирающего, то сюжет «Старосветских помещиков» завершается до прояснения силы предсмертного слова: мы не знаем, наказана ли была Явдоха за неисполнение предсмертной воли умершей.
В «Тарасе Бульбе» этот мотив, преобразованный, но узнаваемый, становится одной из кульминаций всей повести. Перед смертью Остап Бульба оказался в чужом городе, окруженный врагами, несущими смерть, рядом с такими же, как он, осужденными на казнь. В преддверии смерти он боялся не ее, но безвременной насильственной кончины без «зова» от близких людей, с которыми иначе переживается неизбежное: «на миру и смерть красна» – ему не хватало «своего» мира. И он отозвался: «И повел он очами вокруг себя: боже, всё неведомые, всё чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! <…> И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: “Батько! где ты? Слышишь ли ты?“ “Слышу!“ раздалось среди все общей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул» [2, с. 165]. Зов уже почти с того света был услышан не только тем, кому он адресовался, но и «миллионом» других, и этот прилюдно отвеченный зов был потрясением и для приговоренного, и для свидетелей этого мистического диалога. Его отличие от зова в предыдущей повести очевидно: прежде всего, сама публичность ситуации исключает возможность трактовать его как приглашение с того света; также ясно, что это последнее обращение сына к отцу – зов о помощи: Тарас чувствует необходимость быть рядом с сыном в его последнюю минуту, поддержать и «благословить» в последний путь. В этом смысле этот зов соприроден «голосу» из иного мира, слышанному Афанасием Ивановичем, ибо он тоже сопрягает два мира – живых и уже почти мертвых.
Совсем иная ситуация складывается в повести «Вий», возможно, потому, что Хома Брут – сирота, и нет у него дома на этом свете, и никто не ждет его на том. Зов меняется на призыв , т.е. близкую ситуацию, но только вербально. Так, о смерти панночки Хома узнал «от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату и объявил, чтобы он без вся кого отлагательства спешил в дорогу…» [2, с. 189]. Иначе говоря, призывает философа к поминальной службе умирающая панночка, и это действительно зов с того света, но он исходит не от близкого человека, а от ведьмы, погубившей грешную душу философа. Так, однокорневые слова – зов и призыв – в смысловом отношении оказываются семантически далекими понятиями. Но Брут и сам «наговорил» свою историю решением обмануть старуху-ведьму, и вызвал свою смерть, определив ее своей грешной жизнью.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», поставленная в композиционно сильную позицию, становится «собранием» доминантных лейтмотивов цикла, но, как правило, «в обращенном виде». Так, в мире Гоголя целостность человека мыслится только в его соединении с другим – супруги, например, не мыслят жизни без своей половины, на чем и основана тихая трагедия Филимона и Бавкиды Товстогубов. «Война», разрушившая мир Миргорода, истоком своим имела необратимую ссору «парных» персонажей, в результате чего изменился город, но больше всего потеряли сами герои, и прежде всего в имущественном плане, что чрезвычайно важно для контекста именно этой повести. Знаменательно уравнивание человека с вещью, при дескриптивной первичности вещи. В таком контексте лишение вещи, например ружья, чревато распадением целостности человека.
Наконец, в последней повести травестируется не только героический эпос, но и мистические начала, и зов преобразуется в позов – таинственное превращается в бытовое, бытийное – в судебный документ. Первый в заглавии повести первым же начинает тяжбу: «… я подаю по зов . <…> По зов на врага своего, на заклятого врага» [2, с. 247]. Снижение мистического мотива до кляузы показательно для понимания всей повести, полностью построенной на снижении и других значимых для цикла мотивов. Так, и месть перестает быть «страшной», но это только потому, что умален человек: мелки его побуждения и страсти – ничтожна и смешна его месть, как, например, разрушение гусиного хлева в ответ на оскорбление словом «гусак».
Таким образом, наиболее значимым в «Миргороде» оказывается мотив смерти, которая предстает либо в своем конкретном значении, либо как метафора, но именно она означивает финалы всех повестей. Идея единства всего живого, определяющая жизнь Диканьки, сменяется идеей единства живого и мертвого, ознаменовавшей «мир города», и соединяет две сферы непознаваемый мистический зов .
Третий том, создающий иной образ иного мира, и мотив зова принципиально видоизменяет. Так, комическая ситуация с Дедом, которого морочат странными голосами «части» разного зверья – птицы, барана и медведя, в «Петербургских повестях» оборачивается уже открытым абсурдом: сбежавший Нос майора Ковалева на его призывы вернуться на свое исконное место отказывает в довольно высокомерной форме – возможно, потому, что нос чином выше своего обладателя.
В преобразованном виде предстает и миргородская ситуация неверной интерпретации. «Невский проспект», который, как известно, «всё лжет», обманывает и Пискарева, влекомого немым призывом прекрасной Бьянки, которая вместо рая приводит его в ад. Искушением дьявола предстает и поведение «портрета», манящего художника золотом.
Открытой травестией зова/призыва в третьем томе становится объявление («Невский проспект», «Портрет») как особый вставной текст с фиксированным адресантом и с неопределенным адресатом (urbi et orbi). Это не только профанация мистического зова, но и знак полного отсутствия ощущения связи с иным миром, где есть родные души, отчего уход туда нестрашен, а подчас даже желателен. Отчуждение людей в Петербурге захватывает и иной мир, который становится анонимным и враждебным. Более того, не имея иноприродного заступника, человек вынужден сам защищать свои интересы, как это сделал Башмачкин, превратившийся из маленького человека в страшного мстителя. Загробным героем он стал не по зову , а по необходимости – вернуть вещь, шинель, знак светлого гостя.
Завершение мотив зова получает в последней повести третьего тома – в «Записках сумасшедшего». Повесть, о которой много уже написано и много еще будет написано, содержит в себе основные мотивы не только последнего тома, но самым значимым из них становится мотив зова.
Итак, в «Петербургских повестях» зов, как правило, невербальный, существующий только в восприятии реципиента, что решительно меняет формы контакта, создавая иллюзию понимания. Более того, мистика сменяется абсурдом, строящимся на инверсии: у Носа есть лицо, а у лица майора нет носа, который решительно не собирается реагировать на призывы своего обладателя.
В «Записках…» особый герой меняет и всю ситуацию: Поприщин ждет зова, то есть ждет депутацию, которая должна пригласить его на испанский престол. Развязка совпадает с зовом, который не дан герою, но подан им, и обращен он к тому миру, где русские избы соседствуют с Италией. Воззвание сумасшедшего к матушке, единственной, кто может пожалеть о его «больной головушке» – одно из самых пронзительных мест гоголевского творчества, но для нас важен определенный аспект: впервые мотив зова инверсируется, причем дважды: сначала его ждут, а не дождавшись, посылают – с этого мира в иной. Тем самым инверсируются два мира, при этом мистическим и враждебным становится не мир мертвых, а мир живых, и Петрополис – Некрополисом. И эта инверсия – совсем другого порядка, нежели в повести «Нос», где инверсируется часть и целое, – здесь меняются местами представление о жизни и смерти.
Tver State University The Department of Theory of Literature