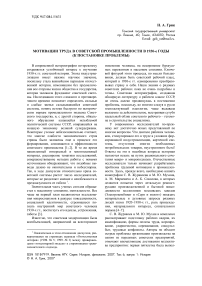Мотивации труда в советской промышленности в 1930-е годы (к постановке проблемы)
Автор: Грик Н.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736847
IDR: 14736847 | УДК: 947.084.5/631
Текст статьи Мотивации труда в советской промышленности в 1930-е годы (к постановке проблемы)
В современной историографии по-прежнему сохраняется устойчивый интерес к изучению 1930-х гг. советской истории. Эпоха индустриализации имеет важное научное значение, поскольку стала важнейшим периодом отечественной истории, изменившим без преувеличения все стороны жизни общества и государства, которая заложила фундамент советской системы. Исследования этого сложного и противоречивого времени позволяет определить сильные и слабые звенья складывавшейся советской системы, понять истоки быстрого по историческим меркам промышленного подъема Советского государства, и, с другой стороны, обвального обрушения казавшейся незыблемой политической системы СССР, опиравшейся на мощную экономику великой супердержавы. Некоторые ученые небезосновательно считают, что многие слабости экономического строя страны были заложены еще в процессе его формирования, сомневаются в эффективности советского производства [1; 2]. В то же время накопленный интересный и многоплановый материал, расширение тематики исследований, совершенствование методик работы с новыми источниками обнаруживают, что подобные выводы далеко не окончательны и небесспорны. Так, в ходе дискуссии относительно краха советской системы растет число исследователей, которые не разделяют мнение о неизбежности и предсказуемости ее гибели 1 .
Значительная часть ученых сегодня обращается к массовому сознанию, ментальности. Все чаще на первый план выдвигаются исследования микросоциумов в ракурсе повседневности, социальной идентичности, стремящиеся познать внутренний мир советского человека 1930-х гг., постигнуть его идеалы, устремления, заботы [3].
Известно, что советская модернизация была всеобъемлющей, направленой на всестороннее изменение человека, на искоренение буржуазных пережитков в массовом сознании. Ключевой фигурой этого процесса, по мысли большевиков, должен быть советский рабочий класс, который в 1930-е гг. одновременно преобразовывал страну и себя. Наши знания о рядовых советских рабочих пока не очень подробны и точны. Советская историография, создавшая обширную литературу о рабочем классе СССР, не очень далеко продвинулась в постижении проблемы, поскольку, во многом следуя в русле господствующей идеологии, чаще выдавала желаемое за действительное, выстраивая сугубо идеальный облик советского рабочего – гегемона в строительстве социализма.
У современных исследователей по-прежнему нет достаточно ясных представлений по многим вопросам. Что двигало рабочим человеком, стимулировало его в труде в условиях форсированной индустриализации, карточной системы, отсутствия многих необходимых потребительских товаров, неустроенного быта? Ответы на эти и подобные вопросы историки пытаются искать на путях рационального сочетания макро- и микроподходов. Отечественные исследователи только начинают разрабатывать проблемы трудовой мотивации в промышленности. Здесь, прежде всего, необходимо назвать монографии С. В. Журавлева и М. Ю. Мухина, А. М. Маркевича и А. К. Соколова, в которых делаются попытки через детальную реконструкцию производственной и бытовой повседневности коллективов московских заводов (Электрокомбинат и «Серп и молот») показать материальные и духовные запросы рядовых людей эпохи 1920–1930-х гг., роль принуждения, материального интереса, сознательного порыва [4–7].
С. В. Журавлев и М. Ю. Мухин в комплексе рассматривают подготовку рабочих кадров, их квалификацию, формы оплаты труда, нормирование, ударничество, соревнование, соцкультбыт, трудовые конфликты. Авторы не обходят острые проблемы организации производства на одном из передовых советских предприятий, отмечают впечатляющие достижения коллектива предприятия: первая пятилетка была выпол-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © Н. А. Грик, 2007
нена за два с половиной года, удвоилась производительность труда, примерно на столько же она выросла и за вторую пятилетку [8. C. 20–21]. Однако деятельность этого завода-комбината не может быть показательной для всей советской промышленности. Сами авторы неоднократно подчеркивали, что Электрозавод – один из технически передовых и перспективных предприятий страны со сравнительно высокой оплатой труда и быстро совершенствующимися социально-культурной и образовательной сферами. Среди новых рабочих-электрозаводцев был высок процент москвичей и сравнительно низок процент неграмотных и малограмотных. Трудовой коллектив оказался существенно моложе по сравнению со средними данными по стране. Здесь трудилась одна из наиболее многочисленных в стране колония иностранных специалистов. Исследователи подтвердили уже известное положение о падении уровня жизни советских рабочих в 1930-е гг. Реальный доход среднего московского рабочего к 1937 г. понизился и составлял всего 63,5 % от показателя 1928 г. [8. C. 62]. Если же учесть, что, по оценкам многих ученых, в конце 1920-х гг. реальная зарплата рабочих России составляла ⅔ от довоенного уровня, то, естественно, остается вопрос, что двигало людьми, что давало им силы совершить индустриальное чудо. Авторы монографии, отвечая на подобные вопросы, показали процесс стимулирования соревнования, стахановского движения, роль в этом заводского «общепита» и соцкультбыта. Кроме того, авторы выделяют наличие разных жизненных стратегий у рабочих: одни тихо саботировали перевод на сдельщину или утверждение завышенных норм выработки, предпочитая действовать по принципу «от работы кони дохнут»; другие уходили в общественную работу, форсировали учебу.
Последнему фактору способствовала политика Сталина, который проводил в это время широкомасштабную программу направления на учебу в вузы, особенно технические, рабочих и крестьян, молодых коммунистов, чтобы подготовить их к занятию командных постов в новом обществе. Усиленная кампания по «пролетаризации» интеллигенции длилась всего несколько лет, но имела далеко идущие последствия. Многие молодые рабочие, в особенности непролетарского происхождения, рассматривали работу на заводе лишь как временный промежуточный этап, для того чтобы заработать характеристику, вступить в комсомол и получить направление в вуз. Вообще усилия властей, направленные на образование и воспитание рабочего класса, в 1930-е гг. не поспевали за высокими темпами индустриализации.
Перед нами наблюдение известного большевистского деятеля А. Г. Шляпникова середины
1930-х гг. о тяготах рабочих Ленинграда: «Работать на заводе стало тяжело, расценки низкие, за ошибки в работе или порчу – судят. Настроение квалифицированных рабочих – бежать куда-нибудь. С заводской работы бегут на какую-либо “службу”, ибо она и лучше оплачивается, и легче. На заводах преобладает крестьянская молодежь и женщины. Это обстоятельство помогает хозяйственникам и администраторам навязывать рабочим и низкие расценки, и проводить “режим экономии” за счет усиления эксплуатации и снижения расходов на мероприятия по охране здоровья и безопасности рабочих и работниц» [9. C. 12].
Подобные наблюдения современника 1930-х гг. подтверждаются названными выше работами. В частности, А. М. Маркевич и А. К. Соколов отметили сильную историческую преемственность во всех отношениях к работе, обусловленную традициями жизни сельского населения, перешедшего к индустриальному труду [10. C. 312]. Их монография, посвященная коллективу завода «Серп и молот» на протяжении 1883–2001 гг., позволила осуществить интересные сравнения и сопоставления. Они пришли к выводу, что до революции главными стимулами были меры материального поощрения, а для поддержания дисциплины применялась система штрафов и увольнений [10. C. 314]. Широкие хронологические рамки исследования позволили им определить советский период как каскад экспериментов в области трудовых отношений, что совпадает с выводами С. В. Журавлева и М. Ю. Мухина. Рассмотрев историю трудовых отношений на заводе «Серп и молот», авторы отметили специфический характер советских трудовых отношений, сложившихся к концу 1930-х гг.: борьба уравнительной и дифференцированной политики в области вознаграждения за труд, уничтожение основ для организации совместных солидарных действий рабочих, рост заработной платы опережал увеличение его производительности, неудача удар-нического, стахановского движения и социалистического соревнования, оставшихся по форме пропагандистским инструментом [10. C. 317, 320, 325].
Вместе с тем последний вывод А. М. Маркевича и А. К. Соколова, по нашему мнению, не является окончательным. Безусловно, сегодня существует вполне оправданный скепсис в отношении социалистического соревнования и его места, роли в трудовой мотивации. Однако в литературе, как, впрочем, и в источниках личного происхождения той эпохи, содержатся попытки признания и объяснения этого советского феномена. Некоторые исследователи уверены, что ускоренные темпы и наличие огромных объемов дешевой рабочей силы породили ценности энтузиазма, самоотверженного, бескоры- стного труда во имя построения нового общества, жертвование индивидуальным во имя коллективного, настоящим во имя отдаленного будущего [11. C. 88]. Правда, здесь содержится известная трудность, заложенная в категории «ценности энтузиазма». Даже появилось понятие «стандартизированный энтузиазм». Первым этот термин ввел известный писатель Л. Фейхтвангер: «Рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки – все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь, они утопают в этом энтузиазме и как ораторы и как слушатели. Власти же стараются поддерживать в них это настроение; стандартизированный энтузиазм, в особенности, когда он распространяется через официальные микрофоны, производит впечатление искусственности» [12. C. 32]. Отталкиваясь от этого не лишенного смысла определения отечественный исследователь С. А. Шинкарчук пришел к выводу, что уже в 1930-е гг. люди поняли, что уклониться ни от чего нельзя, и надо принимать то, что есть. И они играли с властями в стандартизированный энтузиазм, который был своеобразной формой защиты от ненужных неприятностей [12. C. 115]. Вместе с тем трудно согласиться со смысловой связкой «искусственность – неискренность» и заподозрить большинство людей 1930-х гг. в неискренности. Кроме того, подобное объяснение нисколько не приближает нас к пониманию природы трудовой мотивации советских рабочих.
Проблема заключается, на наш взгляд, в том, что ударник, стахановец не являлся типичной фигурой советского рабочего класса. Они составляли меньшинство всех рабочих, которые часто не умели, да и не стремились зарабатывать слишком много, боясь, что им уменьшат расценки. Продолжал сохраняться общинный принцип «не высовывайся», «будь как все». С другой стороны, стоит постоянно помнить о природе энтузиазма, что это, прежде всего, воодушевление и душевный подъем. Другими словами, он не может быть величиной постоянной и защищенной от внешнего воздействия. Известно, что администрация предприятий, партийные, профсоюзные и комсомольские органы, рассматривая соревнование как удар по мелкобуржуазной идеологии и старым традициям, пытались поднять и поддержать энтузиазм рабочих на высоком уровне по преимуществу моральными, агитационно-пропагандистскими средствами. Безусловно, было и материальное стимулирование передовиков, но последнее вступало в непримиримое противоречие с целым комплексом проблем. Прежде всего, ударничество и стахановское движение подрывало плановую систему, нарушало производственный процесс, вело к перерасходу материалов и т. п. Но самым серьезным препятствием для развития социалистического соревнования вглубь было плановое ограничение фонда заработной платы и планирование от достигнутого, которое приводило к отторжению соревнования большинством рабочих. Похоже, что значительная часть рабочих приспосабливалась к соревнованию, демонстрируя лишь внешний, фиктивный энтузиазм. Естественно, серьезного прорыва в области повышения производительности труда такое соревнование не обеспечивало. Поэтому сталинские репрессии 1930-х гг. можно рассматривать как попытку борьбы с уклонением от усилий посредством максимально высоких наказаний. Низкие усилия на производстве именовались «вредительством врагов народа». Жестокие наказания налагались на хозяйственников и рабочих за малейшие неудачи при выполнении заданий. С 1938 г. незначительные нарушения трудовой дисциплины во все возрастающем масштабе рассматривались как уголовные преступления, не взирая на конкретные обстоятельства. Наказанные обычно приговаривались к принудительному труду в учреждениях, работающих на принципах самоокупаемости, где условия содержания были на грани выживания. Посредством таких репрессивных мер власти пытались сформировать ожидания, что неудачи на производстве будут наказаны независимо оттого, были ли они случайны. Только успешное выполнение заданий могло обеспечить безопасность [13. C. 126–127]. Но это было откровенное принуждение, которое ничего общего с энтузиазмом не имело.
Вместе с тем Советская власть опиралась не только на принуждение. В значительной степени она функционировала благодаря тому понятию субъекта, которое сумела внушить людям. Так, социалистическая модернизация обещала радикальное изменение жизненных обстоятельств. Поэтому причины принятия социалистической идеи отнюдь не сводились только к умышленной и хитроумной обработке сознания. Надо помнить, что большевистский режим и народ совместно участвовали в игре номинаций. Режим осуществлял внушение через школу, комсомол, прессу, радио, кинематограф, политучебу, кружки ликбеза и техучебы и т. д., но и сам становился объектом самовнушения. Ведь особенно во второй половине 1930-х гг. на смену старой коммунистической гвардии приходило поколение новых кадров, по большей части созданных выдвиженческими программами начала десятилетия. Они представляли собой неопытных новичков, пытавшихся изо всех сил наращивать экономическую мощь государства. В результате в советском обществе происходили процессы, подтверждающие наблюдение К. Ясперса, что «действительность… в значительной степени зависит оттого, во что верит соответствующее сообщество людей» [14. C. 397]. Моло- дое советское государство, стремившееся построить социализм, было устремлено в будущее. Устремленность в будущее была знаковой чертой большевистских вождей. Об этом свидетельствуют многие выступления И. В. Сталина, В. В. Куйбышева, А. И. Микояна, Г. К. Орджоникидзе и других в 1930-е гг. Они задавали тон в понимании настоящего и будущего. Утверждалось, что только несведущий мог видеть в советской действительности трудности и нищету и не понимать временности и необходимости жертв. И люди, овладевая языком власти, формировали новое состояние своего сознания. Например, молодой рабочий в своем дневнике записал, что считает себя в «идиотском, неполитическом настроении» поскольку наблюдает недостатки в политическом строе, которые «не должен» замечать. Становится ясно, что индивидуум при сталинизме активно осваивал технологию радикальной самотрансформации [15. C. 201].
Мощным каналом личного содействия режиму в 1930-е гг. стал советский язык. Люди – как правило, молодые люди – старательно учились новому языку. Овладение техниками письма и чтения, с одной стороны, и стремление вписаться в общество – с другой, шли рядом. Если человек хотел не только выжить, но и «вписаться», то надо было овладеть языком власти [16. C. 161, 212]. Они старались вписать себя в большевистскую систему ценностей. Благодаря советской пропаганде и агитации эти ценности казались достижимыми и близкими. Сказывалось постоянное внушение рабочим мысли об их авангардной ведущей роли в мировом историческом процессе. Речь идет о попытке субъекта принять участие в историческом процессе, полностью растворившись в нем. Важно помнить и то, что советский язык был построен на понятиях трудовой активности, дисциплины, социальной пользы и преданности государству.
На трудовую мотивацию советского рабочего класса оказывала и военная угроза. О ней не забывали ни рядовые люди, ни вожди. Боязнь новой войны основывалась как на пережитом опыте, так и на большевистской идеологии «осажденной крепости» во враждебном капиталистическом окружении. Настоящее выглядело лишь временной передышкой. Во второй половине 1930-х гг. война становилась неизбежной реальностью. В советском мышлении укоренялось понимание необходимости жертв ради новых домн, шахт, заводов, гидроэлектростанций. Объективности ради надо сказать, что этому соответствовали и «оборонное сознание» народа, сложившееся за несколько веков, и архетип культуры русского традиционного общества [17. C. 42–43, 160].
Военный мотив и классовая борьба были основой формирования образа врага внутри страны. Документы личного происхождения свидетельствуют, что значительная часть молодежи, как, впрочем, и большинство населения, легко и про сто приняли навязанный ей образ врага. Явление суггестии здесь неоспоримо. Психологи знают, что суггестия в среде молодежи распространяется скорее, чем в среде взрослых, что она легче захватывает группу, чем одиночку, и наиболее эффективна при словесном воздействии. Советская пресса 1930-х гг. постоянно муссировала многоликий образ врага, называя, например, выступления против ударников, стахановцев «классово чуждыми выступлениями». Вражьи происки оправдывали постоянное мобилизационное состояние рабочего класса.
Молодой современник 1930-х гг., впоследствии писатель Лев Копелев, будучи в эмиграции, вспоминал: «Нас воспитывали фанатическими адептами нового вероучения... цифры планов, отчетов, сводок обретали для нас некую... завораживающую силу. Тогда многое стали называть борьбой. Мы упоенно выкликали припев “Буденновского марша” – “И все-то наша жизнь есть борьба”. Сталин был самым проницательным, самым разумным» [18. C. 271, 272]. Об этой же завороженности, характерной для второй половины 1930-х гг., говорят и другие мемуары [19].
Молодежь составляла в 1930-е гг. самую внушительную часть советского общества. В некотором отношении сталинская система дала неизмеримо больше возможностей для продвижения наверх человеку из низов, чем у него было при самодержавии, – конечно, при условии полной лояльности к власти. Думается, что части молодежи 1930-х гг. был во многом свойствен некий бездумный оптимизм, вера во всеобщее благоденствие, на фоне которого жизнь отдельного простого человека не имела ни высокой цены, ни значительного смысла. Одна великая цель по сути не позволяла задумываться об индивидуальном. Это была фанатическая вера в прочное всеобщее, одинаковое для всех счастье, полученное из рук лидера, вождя [20. C. 96].
Кроме того, рассматривая проблему мотивации труда в советской промышленности, необходимо учитывать, что в народном сознании имелись глубокие корни общинной «моральной экономики», которые в поведении человека ставили понятие о справедливости выше понятия о выгоде. Такое видение мира советским рабочим делало противоречия модернизации объяснимыми и приемлемыми для него и тем самым способствовало той стабильности режима, которая не перестает озадачивать исследователей.
И все же, несмотря на отмеченные выше черты в облике формирующегося советского рабочего класса, главными оставались материальные стимулы, которые в 1930-е гг. были явно недостаточны. Так, одним из способов регулирования государством доходов являлось введение непропорционально высокого налога с оборота, т. е. продажи товаров массового спроса. По существу государство прибавляло к реальной цене на товары массового спроса большие дополнительные наценки. Весьма красноречиво возрастание доли налога с оборота в розничном товарообороте: в 1931 г. – 44, %, в 1935 г. – 63,4 %. В общих поступлениях в государственный бюджет доля налога с оборота составила в 1931 г. – 46,2 %, в 1933 г. – 50,2 % [21. C. 166–167]. Кроме того, даже по официальным данным заводской администрации, средний рабочий в виде прямой зарплаты получал только 9-ю часть того, что реально вырабатывал, разница шла государству и предприятию на развитие производства [8. C. 62]. Хотя известно, что крестьянин, в одночасье превратившийся в рабочего, был готов довольствоваться малым и его потребности были крайне примитивны. Скудный паек, достаточное количество черного хлеба, а тем более белого хлеба – это было уже хорошо по сравнению с тем, что они испытывали ранее, пара сапог, койка в заводском общежитии, бутылка водки и кусок селедки – вот и вся недолга. Программа-минимум – выживание. Программа-максимум – преодоление социального различия.
Однако процесс формирования и воспитания рабочего и в советских условиях оказывался трудным и длительным и не поддавался ускорению. Только за период первой пятилетки более 10 млн крестьян переехали в город и стали наемными работниками, что составило 68 % пришедших на предприятия новых рабочих. Большинство из новых рабочих были неграмотны или малограмотны. Но с обучением работающей молодежи возникали проблемы. Известно, что в середине 1930-х гг. в кружках ликбеза отсев приближался к трети обучающихся, а в общеобразовательных школах отсев доходил до 60 %.
В 1938 г., несмотря на жесточайший контроль за каждым предприятием, качество продукции было низким, росла доля брака и некомплектных изделий, увеличивались сверх всякой меры запасы оборудования и материалов, не внедрялись вовремя технические достижения. Среди части руководителей народного хозяйства зрело понимание того, что корень проблем лежит не в сфере техники или партийного контроля за порядком, а в социокультурной плоскости, в качестве самой рабочей силы. На XVIII съезде ВКП(б) на фоне общих призывов к укреплению дисциплины и хозрасчета, искоренению бесхозяйственности и безответственности прозвучали слова Председателя Госплана Н. Вознесенского: «Решающим фактором в деле роста производительности труда является поднятие культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда» [8. C. 337].
Итак, можно отметить, что на мотивацию труда в советской промышленности влияло значительное число факторов, которые в совокупности можно назвать эмоционально-политическим настроем на участие в сталинской системе 1930-х гг. Своеобразным камертоном этого являлся советский язык, язык власти. На наш взгляд, та часть людей, которая активно осваивала технологию радикальной самотрансфор-мации, становилась передовой частью советского рабочего класса, пополняла ряды «пролетарской интеллигенции». Далеко не всегда по трудовым заслугам они получали привилегии, новые квартиры, ордена, почетные места в президиумах разных собраний, депутатские мандаты. Самим фактом своего существования эта часть рабочего класса не только укрепляла политический режим, но помогала формировать трудовую мотивацию рабочих, повышала статус рабочего человека, показывая: вот, мол, чего можно добиться при Советской власти простому человеку.
Наш вывод в какой-то мере подтверждает наблюдения Ю. Левады, который полагал, что хотя характеристики Homo soveticus относятся, прежде всего «к лозунгу, проекту, социальной норме», «в то же самое время – это реальные характеристики поведенческих структур» [22. C. 8]. Это подтвердила Великая Отечественная война: проявленного в 1941–1945 гг. патриотизма, причем патриотизма советского образца, не наблюдалось ни в 1904–1905, ни в 1914–1918 гг., не говоря уже о более раннем времени. Развитие системы образования в 1930-е гг., даже в советском варианте, превращало человека в рефлектирующее существо. К тому же советская система воспитания всегда упирала на сознательность, осознанность поведения, самокритику и самоанализ. Б. Н. Миронов полагает, что советская социализация изменила человека существенно [23. C. 330].
Таким образом, стремление вписаться в советское общество, стать таким как все, безусловно влияло как на уровень трудовой дисциплины, так и на заинтересованность в труде. Однако форсированный характер советской индустриализации, катастрофическое материальное положение (особенно в первой половине 1930-х гг.), административное рвение власти, невысокий культурный и профессиональный уровень работников не позволял осуществить серьезный прорыв в повышении эффективности промышленного производства. На мотивацию труда в 1930-е гг. оказывали влияние традиции прошлого. Советский опыт подтвердил одно известное у западных историков экономики правило: «чем быстрее тормозить или изменять ситуацию, тем больше старого будет восстановлено».
Материал поступил в редколлегию 29.10.2006