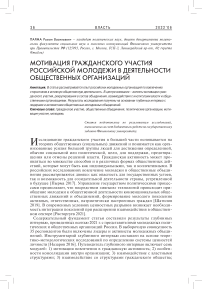Мотивация гражданского участия российской молодежи в деятельности общественных организаций
Автор: Парма Роман Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается опыт российских молодежных организаций по вовлечению сторонников в активную общественную деятельность. В центре внимания - аспекты мотивации гражданского участия, рекрутирования в состав объединения, взаимодействия с институтами власти и общественными организациями. Результаты исследования получены на основании глубинных интервью с лидерами и активистами общественных молодежных объединений.
Гражданское участие, общественные объединения, политические организации, мотивация участия, молодежь
Короткий адрес: https://sciup.org/170195910
IDR: 170195910 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9331
Текст научной статьи Мотивация гражданского участия российской молодежи в деятельности общественных организаций
И сследование гражданского участия в большей части основывается на теориях общественных (социальных) движений и понимается как организованные усилия большой группы людей для достижения определенной, обычно социальной или политической, цели, для поддержки, предотвращения или отмены решений власти. Гражданская активность может проявляться во множестве способов и в различных формах общественных действий, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В российских исследованиях вовлечение молодежи в общественные объединения рассматриваются двояко: как опасность для государственных устоев, так и возможность для созидательной деятельности страны, устремленной в будущее [Пырма 2017]. Управление государством политическими процессами предполагает, что посредством «мягких» технологий происходит приобщение молодежи к общественной деятельности конвенциональных общественных движений и объединений, формирование молодого поколения активных, ответственных, патриотически настроенных граждан [Шатилов 2019]. В современных условиях ценностных разрывов возникает необходимость интеграции поколений при расширении взаимодействия в общественном секторе [Расторгуев 2021].
Содержательный фундамент статьи составили результаты глубинных интервью, проведенных осенью 2021 г. с представителями молодежных политических и общественных организаций России. В выборочную совокупность 35 респондентов были включены лидеры и активисты молодежных объединений. Инструментарий глубинного интервью составлен на основе теоретико-методологических исследований по определению системы ценностей личности [Назаров 2016]. Путеводитель глубинного интервью включает семь модулей: 1) мотивация вовлечения в гражданскую активность; 2) особенности консолидации внутри организации; 3) взаимодействие с властными структурами; 3) взаимодействие со структурами гражданского общества;
4) привлечение сторонников в офлайн- и онлайн-форматах; 5) формирование у молодежи культуры и установок гражданской активности; 6) лидеры и центры общественного мнения (ЛОМы и ЦОМы); 7) личные жизненные и гражданские ценности.
Анализ стенограмм глубинных интервью показал, что существует специфика аффективной, когнитивной и поведенческой составляющей факторов участия российской молодежи в общественных и политических объединениях в зависимости от роли в организации (движении) и типа объединения по сфере деятельности. Напротив, такие особенности в зависимости от половозрастных характеристик не выявлены. Наиболее явно указанные отличия проявились во фрагментах интервью, связанных с мотивацией участия респондентов в гражданской и/или политической активности, а также с характеристиками жизненных ценностей.
Мотивация участия в общественных объединениях тесно связана с пониманием российской молодежью своих жизненных ценностей. Лидеры и активисты молодежных объединений часто обозначают идейную основу как возможность реализовывать одобряемые общественные ценности. В доминирующей идейной мотивации участия чаще всего прослеживается ориентация на ценности общественной справедливости, всеобщего благосостояния, социального равенства, на ценность оказания помощи нуждающимся. Такая идейная мотивация участия на основе ценности справедливости наиболее выражена в молодежных объединениях левой политической ориентации.
«Подтолкнула меня в организацию какая-то несправедливость, почитал в Интернете про разные политические течения, направления и понял, что коммунистические идеи мне более близки и, собственно, решил» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«До этого я заинтересовалась феминизмом, потому что я сталкивалась с огромным количеством несправедливости, в 10–11 классе я свои убеждения, которые были внутри меня, сформулировала в феминизм» (лидер, жен., 21 год, СоцФемАльтернатива).
«Стремлюсь скорее к справедливости, чтобы она была в нашем обществе, чтобы богатые не были слишком богатыми, а все остальные бедными» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«Моя главная цель – это помочь всем людям. Я хочу получить образование и скорее всего буду развиваться в научной сфере: магистратура, аспирантура, и именно своей научной деятельностью я буду помогать людям» (лидер, жен., 20 лет, СоцФемАльтернатива).
«К работе в центре подтолкнула моя подруга. Когда я пришла в институт все ребята активно занимались волонтерской деятельностью – давайте помогать миру. До этого я никогда в таком не участвовала, подумала, что надо попробовать, и с тех пор я занимаюсь волонтерской деятельностью» (активист, жен., 19 лет, Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, «АННА»).
Мотивация участия членов политических и общественных объединений в ряде случаев характеризуется приверженностью личности лидера организации (движения). Кроме того, молодежь мотивирует к участию потребность в общении и принадлежности к референтной социальной группе. Вовлечение данного типа участников общественных движений происходит с помощью психологических механизмов подражания, проекции и присоединения.
Существенные отличия в мотивах участия наблюдаются у сторонников проправительственных и оппозиционных партий. Доминантой участников оппозиционных партий является несогласие с курсом нынешней власти. Еще одним выраженным мотивом участия представителей оппозиционных объединений являются прагматичные цели участия в деятельности данных организаций.
«Я стремлюсь к тому, чтобы изменить свою страну, мне нравится эта страна, но мне не нравится это государство» (активист, муж., 19 лет, «Молодежное Яблоко»).
«Целей очень много, как у всех у нас. Есть краткосрочные и долгосрочные. Глобальные – через 5 лет вижу себя в Думе, через 10 в правительстве, так как мне будет 30 лет, вижу себя самым молодым губернатором. А партия, конечно, помогает, в 18 лет я в первый раз избирался в муниципальную думу в городе Москва» (лидер, муж., 20 лет, Молодежная организация ЛДПР).
«Может быть, научат что-то организовывать. Английский подтянуть на международных мероприятиях. Там просят английский. Хочешь не хочешь, придется говорить. Это большое развитие. Такие навыки, которые нужны в жизни» (активист, жен., 19 лет, Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга).
Ответы на вопросы о модели консолидации внутри организации выявили запрос на демократический стиль взаимодействия между лидером и активом объединения. Особое значение для респондентов имеет открытость лидера для критики, его личностная доступность. Примечательно, что фактически респонденты затруднились в адекватном ответе на данный вопрос, подменили понятие типа консолидации типом координации работы объединения.
«У нас организация не начальников, у нас в первую очередь организация товарищей. Поэтому любой рядовой член организации может позвонить руководителю, первому секретарю Центрального комитета и задать ему интересующий вопрос. В этом у нас проблем нет» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«Здесь каждый член организации имеет достаточно собственных прав, чтобы выступать против мнения лидера и делать что-то самому, и может даже изменить мнение организации. Как раз таких членов объединяют либерально-демократические ценности и плюрализм» (активист, муж., 19 лет, «Молодежное Яблоко»).
Модуль интервью-гайда, касающийся взаимодействия с властью, позволил определить ведущую интерактивную стратегию общественных объединений. Как правило, данное взаимодействие носит бессистемный, разовый, ситуационный характер. Культуре оппозиционных политических и общественных организаций свойственно понимание взаимодействия с властью как преимущественно протестной активности, представление о ней как о единственно продуктивной форме, позволяющей добиться желаемого. У оппозиционных образований чаще всего такая стратегия сводится к деструктивной и не адекватной поставленным целям модели конструирования в социальных медиа критически ориентированных дискурсивных практик, выражения несогласия с отдельными решениями действующей власти. Отвечая на вопрос о форматах взаимодействия с властью, респонденты части общественных объединений концентрировались на опыте и возможности развития неконвенциональной активности, включая организацию пикетов, протестных акций, митингов.
«Взаимодействие происходит точечно от ситуации к ситуации, в основном этим занимается центральное отделение КПРФ… Обычно мы создаем критический дискурс, все-таки мы оппозиционная организация» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«Нет общих точек соприкосновения с властью, так как наше государство отвратительно капиталистическое. Если ранжировать, то худший вид капитализма, который может существовать. Наша организация идет врозь с возмож- ностью финансироваться со стороны государства, так как оно авторитарное» (лидер, жен., 20 лет, СоцФемАльтернатива)
«Про какое-то сотрудничество, честно говоря, сложно сказать. Есть определенное взаимодействие, мы тесно соприкасаемся с партийными делами, живем в партии, можно сказать. У нас 90% ребят достигшие 18 лет в партии находятся, естественно, так или иначе с органами исполнительной власти соприкасаемся. Все больше молодых ребят становятся муниципальными и городскими депутатами Законодательного собрания» (лидер, муж., 30 лет, Ленинский комсомол).
«Массовые акции протеста нужны, чтобы влиять на людей, которые принимают политические решения. Так, разговор про закон о домашнем насилии идет благодаря как раз повышенному вниманию к этой теме, благодаря пикетам» (активист, жен., 19 лет, Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, «АННА»).
«Митинги были по проекту “Честное голосование” ‹…› Пикеты нужно организовывать более массово, потому что у нас все равно всех вяжут. Забастовки – стране нужны забастовки. Европа бастует и добивается своего, а у нас как-то все с этим плохо» (активист, жен., 24 года, штаб Навального).
Относительно взаимодействия с другими институтами гражданского общества получены довольно очевидные ответы, отраженные в признании необходимости сотрудничать с близкими по целям организациями. Вместе с тем ни лидеры, ни активисты не указали на регулярные форматы данных интеракций. Особого внимания заслуживает пункт исследования, нацеленный на изучение методов масштабирования целевых аудиторий, применяемых общественными объединениями. В целом можно констатировать, что работа с таргетными группами является ситуационной, несистемной, отсутствует цифровой рекрутинг и социально-медийное сопровождение деятельности объединения.
«У нас в первую очередь – это точечная работа. Нельзя всех подряд принимать, так как это бесполезно, глупо и неэффективно, потом эти люди пропадают, их исключать надо» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«Сейчас у нас нет конкретной цели набрать множество сторонников. Мы каждый день стараемся публиковать посты в разные социальные сети» (лидер, жен., 20 лет, СоцФемАльтернатива).
«У нас есть определенная специфика отбора участников и привлечения их в организацию, так как мы организация, которая имеет серьезную идеологическую платформу, мы не можем набирать вот так вот для числа людей, а так, конечно, было бы проще, организация давно бы перевалила за 50 тыс., если бы брали всех, кого ни попадя» (лидер, муж., 29 лет, Ленинский комсомол).
«У нас нет сайтов рекрутирования. У нас живые люди, все по-настоящему. Встретили нас на улице ребята: “О, красиво, круто, что делаете? А с вами можно?” Обменялись контактами, пригласили. У нас так. Возможно, есть набор в ВК» (активист, муж., 21 год, ОНФ).
«Интернет позволяет узнать о нас большому количеству молодежи, которая потом приходит к нам. Так основной пассивный поиск идет. Конечно, мы можем на разных площадках и презентовать нашу организацию и уже конкретно целенаправленно агитировать за вступление заинтересованной молодежи, но все-таки у нас основная работа идет так, что мы показываем, что мы делаем, и любой человек, для которого наши цели и задачи идентичны и вхож, он хочет вступить и вступает» (активист, муж., 24 года, Молодая гвардия).
«У нас основной канал привлечения сторонников – это волонтеры, которые приезжают в фонд и которые в любом случае после прохождения программ становятся чуть ли не амбассадорами идей фонда, и они очень сильно через свое сарафанное радио продвигают идеи фонда, привлекают новых волонтеров, кто-то привлекает спонсоров, кто-то рассказывает в медучреждениях о таких программах, как “Шередарь”» (лидер, жен., 29 лет, благотворительный фонд «Шередарь»).
«У нас есть цель привлечь волонтеров на постоянной основе, есть цель привлечь автопомощь, спонсоров, фотографа, журналистов, возможно, в Инстаграм ищем блогеров, которые могут помочь и раскрутить проблему, если нам нужна автопомощь, как недавно из Чебоксар в Москву нужно было перевезти животное» (лидер, жен., 30 лет, фонд защиты животных «УМКА»).
«Мы рассылаем призыв людям в групповые чаты, которые остались после мероприятий. Люди говорят: “Мы хотим еще!”» (активист, жен., 19 лет, Центр городских волонтеров СПб).
Высказывания респондентов свидетельствует об отсутствии четкого представления о стратегии социально-медийного сопровождения деятельности молодежных объединений, об отсутствии внимания к этому направлению как отдельной важной и значимой работе, которая должна быть подкреплена участием профильных специалистов. Также обнаруживается отсутствие осознания у представителей молодежного общественного сектора важности ведения системной и профессиональной работы в социальных медиа, существует убежденность в достаточности осуществления этой активности на уровне общей интуиции и здравого смысла.
Анализируя ответы респондентов об одной из ключевых задач общественных объединений, состоящей в формировании гражданских установок молодежи, отметим преобладание традиционных форматов ценностного воздействия на молодежную аудиторию, имеющих в современных условиях расширения влияния цифровых коммуникаций слабый потенциал вовлечения широких слоев молодого поколения в гражданскую активность. В ряде случаев респонденты признавали формальность деятельности молодежных организаций и имитационный характер их активности в публичном пространстве.
«В принципе мы проводим культурные мероприятия и в МХАТе, и в офисе у нас, в офисе Евразийского движения, и с иностранцами, с гостями, и с патриотами, и узким кругом, круглые столы устраиваются. Многие люди пишут, обращаются, многие потом обращаются, потом пропадают, у них там порыв проходит, кто-то остается» (активист, муж., 30 лет, Евразийский союз молодежи).
«Пикеты, массовые акции протеста мы пока не организуем, но при этом принимаем участие, опять же разнообразные эфиры, подкасты, которые тоже имеют своей целью просвещение и попытку заявить о себе. Так вообще у нас в России, не только в “Молодежном Яблоке”, все строится вокруг пикетов и разнообразных митингов. Поэтому всесторонние мероприятия менее заметны» (активист, муж., 19 лет, «Молодежное Яблоко»).
«Традиционно мы выходим Первого мая, 23 февраля мы отмечаем День армии, это такие традиционные праздники. Ежегодно это 3 и 4 октября – день расстрела Белого дома в 93 году. А так мы проводим всякое разное на разные темы. Вот у нас прошли одиночные пикеты по теме 3-дневного голосования, которое Госдума одобрила. До этого мы проводили акции протеста против принятия поправок в Конституцию» (лидер, муж., 25 лет, Ленинский комсомол).
«Цельной программы и целей по формированию установок гражданской активности нет, но организуются точечные акции в привязке к событиям… Мы недавно проводили дебаты с гражданским обществом либертарианцев. У них появилась фемфракция, и мы с ними проводили беседу о положении женщин в капитализме. В основном у нас есть девушки, которые участвуют в наших чатах от разных организаций, также у нас есть наши девушки в чатах разных организаций» (активист, жен., 20 лет, СоцФемАльтернатива).
«“Молодежное Яблоко” занимается определенной просветительской деятельностью в плане политической грамотности. Мы проводим разнообразные лекции, связанные как с историей, так и с современной действительностью. Приглашаем различных спикеров как из различных правозащитных организаций, так и из основного “Яблока”, с которым “Молодежное Яблоко”» (активист, муж., 19 лет, «Молодежное Яблоко»).
«Наша цель помочь и вдохновить на активные действия и решительные шаги, необязателен формат окультуривания, но необходимо, чтобы человек имел свое мнение и свою позицию. Умел регулировать свое поведение и потребление» (активист, муж., 27 лет, Эка! Зеленое движение России).
«Сейчас политическая позиция стала чем-то личным, и стараюсь не принимать участие в политических штуках. Один раз было мероприятие, связанное с поправками в Конституцию. Мы стояли и рассказывали о поправках, не призывали голосовать» (активист, жен., 18 лет, «Мосволонтер»).
«Все это сводится к нулю. Ключевая задача молодежки – поставлять массовку на мероприятия разного рода. Молодежь ЛДПР – это раздача подарков, шарфиков, освежителей воздуха. Никаких конкретных задач молодежка не решает… Любая организация, которая привлекает к себе людей на свою сторону, не дает возможности серьезно повлиять на серьезные процессы» (активист, муж., 26 лет, Молодежное отделение ЛДПР).
На основе результатов глубинных интервью была определена иерархия факторов, влияющих на формирование установок и культуры гражданского участия. Среди них факторы идейной близости, возможности социального влияния, тщеславия и достижительности (глорический фактор), социального признания, референтности лидера организации, социальной принадлежности и «социального узнавания», наличие прагматичного ценностного ядра, освоение SOFT skills . Факторы формирования неконвенциональных установок гражданского активизма складываются из мотивов материальной выгоды, пренебрежения к законам страны, восприятия протестных акций как наиболее эффективного метода привлечения внимания к проблеме/объединению/пер-соне, неудовлетворенности положением дел в стране, недоверия к власти, воздействия внешних и внутренних социально-медийных потоков протестного содержания, реализации экологических проектов.
Факторы формирования конвенциональных установок гражданского активизма состоят в уважении к Конституции РФ и законам страны, позитивном взаимодействии с органами власти, положительном опыте совместного с властью решения социальных проблем, макросоциальном ценностном ядре (справедливость, стабильность, порядочность, оптимистичный образ будущего, удовлетворенность положением дел, ценностная близость идей конструктивных общественных объединений), микросоциальном ценностном ядре (семья, дружба).
Резюмируя результаты анализа стенограмм глубинных интервью, перечислим основные итоги:
– мотивация к участию в гражданской/политической активности лидеров и активистов в большей степени идейная, в меньшей степени – подражательная, основанная на авторитете руководителя организации/движения;
– лидерам и активистам в большей мере присущи макросоциальные жизненные приоритеты (достижение целей социальной справедливости и всеобщего блага), в меньшей мере – прагматические (совершенствование SOFT skills, партийная карьера и возможность достижения позиций в органах власти);
– сектор общественной активности – пространство, в котором реализуется социальный запрос российской молодежи на горизонтальные связи рядовых участников с активом объединений;
– доминирующей установкой оппозиционных объединений является ориентация на протестную активность как наиболее эффективную форму взаимодействия с органами власти;
– общественные объединения фактически не реализуют современные коммуникативные форматы масштабирования целевой аудитории, не ведут систематическую работу по привлечению сторонников в социальных медиа.
Список литературы Мотивация гражданского участия российской молодежи в деятельности общественных организаций
- Назаров Д.М. 2016. Модель оценки имплицитных факторов на основе нечетко-множественных описаний. - Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. № 4(80). С. 3-17.
- Пырма Р.В. 2017. Восстание поколения Z: новые политические радикалы. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 7. №2(26). С. 43-50.
- Расторгуев С.В. 2021. Моделирование межпоколенческих коммуникаций. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 11. № 6. С. 6-10.
- Шатилов А.Б. 2019. "Мягкие" технологии российской власти по профилактике и нейтрализации экстремистских проявлений в молодежной среде в 2000-2010-е годы. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 9. № 1(37). С. 32-37.