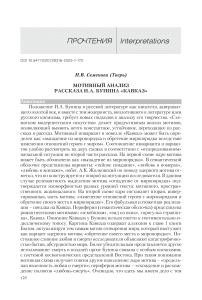Мотивный анализ рассказа И.А. Бунина "Кавказ"
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (64), 2023 года.
Бесплатный доступ
Положение И.А. Бунина в русской литературе как писателя, завершающего золотой век, и вместе с тем модерниста, воплотившего в литературе идеи русского космизма, требует новых подходов к анализу его творчества. «Схематизм модернистского искусства» делает продуктивным анализ мотивов, позволяющий выявить нечто константное, устойчивое, переходящее из рассказа в рассказ. Мотивный инвариант в новелле «Кавказ» может быть определен как «выпадение из миропорядка и обретение миропорядка вследствие изменения отношений героев с миром». Соотношение инварианта и вариантов удобно рассмотреть на двух схемах в соответствии с «отзеркаливанием» начальной ситуации во второй части рассказа. На первой схеме ядро мотива может быть обозначено как «выпадение из миропорядка». В семантической оболочке представлены варианты: «тайное свидание», «любовь в номерах», «любовь в экипаже», побег. А.К. Жолковский по поводу ядерного мотива отметил, что он конструируется с опорой на интуицию исследователя. В данном случае релевантность выделения мотива «отпадение от миропорядка» подтверждается изоморфностью разных уровней текста: мотивного, пространственного, акционального. На второй схеме ядро составляет вторая, инвертированная, часть мотива: «изменение отношений героев с миропорядком и обретение своего места в миропорядке». Его фабульная и сюжетная реализация - поездка на Кавказ. Периферия (семантическая оболочка) представлена романтическими мотивами: «эскейпизм», «вид из окна», «прогулка странника», Кавказ. Описание Кавказа у Бунина нельзя свести к сентиментально-идиллическому топосу. Картины Кавказа содержат аллюзию к главе 1 книги Бытия, актуализируя тем самым мотив сотворения мира, который выступает как вариант ядерного мотива «обретение своего места в миропорядке». Постоянное слияние любви и смерти исследователи объясняют катастрофичностью бытия, абсурдностью мира. Более убедительным представляется другое истолкование: смерть в поздней прозе Бунина связана с особым космизмом, с системой космогонических представлений Востока. При таком понимании мотивная схема получает совсем другое наполнение: ядро мотива - «предельная явленность любви и смерти»; периферия мотива - «схождение и расхождение полюсов «любовь-смерть». Очевидно, что здесь мы имеем дело с тем ннотация редким случаем, который подтверждает действие принципа дополнительности в литературе. На примере рассказа Бунина «Кавказ» можно предположить, что даже при использовании одного языка-описания результат может меняться в зависимости от того, какой художественной модели мира оказывается адекватен эстетический анализ
Мотив, инвариант, вариант, принцип дополнительности, и.а. бунин
Короткий адрес: https://sciup.org/149142763
IDR: 149142763 | DOI: 10.54770/20729316-2023-1-170
Текст научной статьи Мотивный анализ рассказа И.А. Бунина "Кавказ"
Новелла «Кавказ» Бунина написана в 1937 г. и вошла в цикл рассказов «Темные аллеи». «Кавказ» – второй рассказ в цикле, что само по себе заставляет сделать предположение о продуктивности мотивного анализа, поскольку мотив может реализоваться только в интертекстуальном повторе.
Исследование мотивов могло бы прояснить и положение Бунина в русской литературе как писателя, завершающего золотой век, и вместе с тем модерниста, воплотившего в литературе идеи русского космизма.
«Схематизм модернистского искусства» отметил у Бунина Джеймс Б. Вудворд см.: [Лощинская 2001, 743]. В том же ключе анализирует малую прозу Бунина Диана Мышалова, отмечая, что «обобщение разнообразных событий до праситуации – это один из важнейших принципов модернизма» [Мышалова 1995, 65]. «Нечто константное, устойчивое, переходящее из рассказа в рассказ» [Мышалова 1995, 66], некоторыми исследователями определяется также как гиперсюжет [Коновалов 2009, 365].
Современные теоретики в структуре мотива выделяют инвариант (или ядро мотива) и варианты (или оболочку, периферию мотива) [Силантьев 2001]. При конструировании инварианта мы обратились к дедуктивному методу, признавая за мотивом такие сущностные признаки, как предикативность и двусоставность [Тюпа 1996, Силантьев 2001], где есть данное (тема) и новое о данном (рема).
Исходя из вышесказанного мотивный инвариант в новелле «Кавказ» может быть определен следующим образом: «Выпадение из миропорядка и обретение миропорядка вследствие изменения отношений героев с миром» [Тюпа 1998].
Для удобства рассмотрения соотношение инварианта и вариантов можно представить на двух схемах в соответствии с «отзеркаливанием» начальной ситуации во второй части рассказа.
На первой схеме ядро мотива обозначено как «выпадение из миропорядка». В семантической оболочке представлены варианты: «тайное свидание», «любовь в номерах», «любовь в экипаже (поезде, автомобиле)» [Щеглов 1996, 167]; побег. О диффузии мотивов можно говорить, когда соседние мотивы поясняют семантику мотива исходного. Так, когда герои тайно встречаются в номере гостиницы и затем совершают совместное путешествие на Кавказ, мотив «тайное свидание» диффундирует с мотивами «любовь в номерах» и «любовь в экипаже». Все эти мотивы содержат указание на тайную (грешную, запретную) любовь. Их хронотопической характеристикой является замкнутость пространства: герои скрываются от посторонних глаз в гостиничном номере, в купе поезда. Мотив изоляции получает множественное вещественное наполнение, отгороженность от внешнего мира находит выражение в жестах. Она «спешила поднять вуальку», входя в номер. Он пробегает по платформе, «надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто». Войдя в вагон, «немедленно опустил оконную занавеску», «на замок запер дверь», «чуть приоткрыл занавеску», «отшатнулся от окна, упал на пол». Мотив изоляции не исчезает совершенно во второй части (правда, шарф газовый, и, значит, это не полная изоляция): «Она <…> закрывала лицо газовым шарфом и плакала» [Бунин 1988, 259].
А.К. Жолковский по поводу ядерного мотива отметил, что он конструируется с опорой на интуицию исследователя. В данном случае релевантность выделения мотива «отпадение от миропорядка» подтверждается изоморфностью разных уровней текста: мотивного, пространственного, акционального.
Самоубийство офицера не вписывается в инвариант и может быть определено как постпозиция мотива.
На второй схеме ядро составляет вторая, инвертированная, часть мотива: «изменение отношений героев с миропорядком и обретение своего места в миропорядке». Его фабульная и сюжетная реализация – поездка на Кавказ. Периферия (семантическая оболочка) представлена романтическими мотивами: эскейпизм – бегство на лоно природы, где возможно обретение утраченной гармонии вдали от законов света, от язв цивилизации. Романтические мотивы – «вид из окна», «прогулка странника» (ранее он именовал себя «затворником»). Прогулка в одиночестве не имеет определенной цели для героя, это открытие мира, а не свидетельство его охлаждения к героине, как полагают иногда исследователи: «Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи» [Бунин 1988, 258].
Кавказ предстает в его дикости и первозданности. Существенно, что это не города Кавказа – Геленджик, Гагры, Сочи – названные в новелле топонимы, но «место первобытное», куда герои «спустились вдоль берега к югу». Кавказ в русской литературе – романтический топос, что подтверждается отсылкой к мотиву «couleur locale» («местный колорит» во французском романтизме). В рассказе героя о его первой поездке на Кавказ появляются экзотизмы: «горные джунгли», «тропическое море»: «А теперь я там буду с тобой в горных джунглях, у тропического моря» [Бунин 1988, 256].
На самом деле черноморское побережье Кавказа – это субтропики, а не тропики и джунглей в горах Кавказа нет: джунгли – это влажные тропические леса.
Описание Кавказа у Бунина нельзя свести к сентиментально-идиллическому топосу. Обобщая опыт русской литературы, Михаил Эпштейн кавказский пейзаж описывает так: «Южные окрестности России издавна притягивали к себе русских поэтов. Здесь открывался иной мир – вольный, цветущий: поперек бескрайней, тягучей равнины вставали горы, влекущие ввысь, а за ними – море, зовущее вдаль. И этот отрыв от скучной земли, всегда равнинной, равной себе, создавал высокое состояние духа, устремленного в сверхземное» [Эпштейн 1990, 165].
Картины Кавказа в рассказе Бунина, кроме того, содержат аллюзию к главе 1 книги Бытия, актуализируя тем самым мотив сотворения мира.
-
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою.
-
3 Сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
-
4 И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы [Библия. Быт. 1: 2, 3, 4].
Об изначальной неразделенности света и тьмы напоминает в рассказе оксюморонное сочетание «темный свет» (толпу на платформе герой видит «в темном свете вокзальных фонарей»). В картинах Кавказа «тьма», «темнота», «свет» («горячие, веселые полосы света») существуют уже отдельно.
Помимо моря, неба, гор, в описании Кавказа есть луна и солнце («два светила великие» в Библии); птицы («мяукали орлята»); «скоты» (волы, лошади, ослики); «звери земные» («ревел барс», «тявкали чекалки»), че-калки приходят к жилищу человека; «рыбы морские» («все жаренная на шкаре рыба»); «зелень, трава» («подсолнечники», «алые мальвы»). Цитата из Библии: «[Д]ерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу» [Библия. Быт. 1:29]. У Бунина: «[Б]елое вино, орехи и фрукты» [Бунин 1988, 258]. Мужчина и женщина – безымянные Он и Она в рассказе. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [Библия. Быт. 1:27].
Таким образом, мотив «сотворение мира из хаоса» выступает как вариант ядерного мотива «обретение своего места в миропорядке».
Ни инвариант, ни варианты не содержат праситуации «любовное влечение и слияние мужчины и женщины как проявление извечного родового полового инстинкта» [Мышалова 1995, 61]. В «Кавказе» есть любовь, страсть, но не всевозможные эквивалентные замены, которые иногда предлагаются: «связь, роман, интрижка, флирт» [Коновалов 2009, 366]. Здесь больше подойдет определение – «напряженная страстность», чему соответствует «уникальная в своей яркости и художественной достоверности внешняя изобразительность» [Сливицкая 2001, 464].
«Предельной явленности» любви соответствует «предельная явлен-ность» смерти. Некоторые его новеллы, – отмечают исследователи, – «несут такую силу смерти, что кажется, будто не смерть вмешалась в жизнь, а наоборот, жизнь вторглась – коротко и суетливо – в вечное царство смерти» [Коновалов 2009, 368]. Постоянное слияние любви и смерти имеет разные объяснения, в том числе называются катастрофичность бытия, абсурдность мира. Более убедительным представляется другое истолкование: смерть в поздней прозе Бунина связана с особым космизмом, с системой космогонических представлений Востока, с отсутствием христианской вертикали (верх / низ, праведность / грех) [Сливицкая 2001]. Но в таком случае возникает вопрос: насколько корректными оказываются предложенные схемы, ведь для восточной философии дисгармоничный миропорядок оказывается в принципе невозможен. Темное начало ИНЬ уже содержит в себе светлое начало ЯН и наоборот, и потому «не борьба, а схождение и расхождение полюсов определяет бунинскую вибрацию» [Сливицкая 2001, 459].
При таком понимании мотивная схема получает совсем другое наполнение: ядро мотива – «предельная явленность любви и смерти». Периферия мотива – «схождение и расхождение полюсов «любовь-смерть».
Сближение любви и смерти происходит постоянно. В словах офицера: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» [Бунин 1988, 256]. В упоминании героини о смерти: «Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки» [Бунин 1988, 257]. Возможная смерть является предлогом для ее отъезда: «Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря…» [Бунин 1988, 256].
Мотив смерти отмечен в тропах: «плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной запутанности», «гробов[ая] чернот[а] лесов» «[Бунин 1988, 258, 259].
В портретах героев «бледность», «холод» содержат двойную коннотативную сему – любви и смерти: «Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины…» [Бунин 1988, 256]; «И она бледнела, когда я говорил: “А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря”» [Бунин 1988, 256]; «Когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода» [Бунин 1988, 257]; «Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку…» [Бунин 1988, 257].
Точки-оксюмороны на словесном уровне: «безнадежно-счастливый вой», «радостно плакала», «темный свет» – отражают оксюморонность сюжета: счастье героев оплачено смертью. В финальной сцене офицер стреляется в номере гостиницы из двух револьверов, но гармонии вселенной это не разрушает. И дело, очевидно, не только в том, что о смерти сказано чрезвычайно скупо, и притом в последнем абзаце новеллы. Этот феномен нельзя понять, не принимая во внимание увлечения Бунина восточной философией.
Законы универсума на Западе и Востоке определяются по-разному. «Можно сказать: белое или черное – европейская модель, белое станет черным – китайская модель, белое и есть черное – индийская модель. Три разные модели развития: предельно динамичная (взрыв структуры в результате столкновения противоположностей и замена ее другой), умеренно динамичная (развитие происходит за счет перехода одной противоположности в другую в пределах одной и той же структуры) и нединамичная или мало динамичная (вернее, внутренне динамичная) индийская модель» [Григорьева 1979, 107].
Представление о том, что «до развязки конфликт не дотягивает, угасает» [Коновалов 2009, 368] в таком случае можно оспорить: любовь и смерть в их предельном выражении гасят взаимную энергию и воцаряется великий покой – нирвана.
Очевидно, в «Кавказе» Бунина мы имеем дело с тем редким случаем, который подтверждает действие принципа дополнительности в литературе.
Принцип дополнительности основывается на том, что язык-описание, с одной стороны, определяется характером материала, а с другой – влияет на результаты исследования. Вместе с тем, распространяя действие принципа дополнительности на область гуманитарных знаний, Нильс Бор не настаивает в этом случае на «абсолютно исключающих друг друга соотношениях». «Искусство способно напоминать нам о гармониях, лежащих за пределами систематического анализа, в этой области не может быть и речи о таких абсолютно исключающих друг друга соотношениях, как те, которые имеются между дополнительными данными о поведении четко определенных атомных объектов» см.: [Данин 1978, 97].
На примере рассказа Бунина «Кавказ» можно предположить, что даже при использовании одного языка-описания результат может меняться в зависимости от того, какой художественной модели мира оказывается адекватен эстетический анализ.
Список литературы Мотивный анализ рассказа И.А. Бунина "Кавказ"
- Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1988. 639 с.
- Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979. 368 с.
- ДанинД.С. Нильс Бор. М.: Молодая гвардия, 1978. 556 с.
- Коновалов А.А. Особенности сюжетной организации рассказов И.А. Бунина // Преподаватель XXI век. 2009. № 1-2. С. 362-370.
- Лощинская Н.В. «Уникальность», «традиция», «модернизм»: Творчество И.А. Бунина в восприятии английских и американских славистов на рубеже 19601970-х годов // И.А. Бунин: pro et contra / сост. Б.В. Аверин, Д. Риникер, К.В. Степанов. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2001. С. 731-749.
- Мышалова Д.В. Очерки по литературе русского зарубежья. Новосибирск: ЦЭРИС. Сибирская издательская фирма РАН, 1995. 223 с.
- Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. Новосибирск: Издательство Государственного института дискретной математики и информатики, 2001. 236 с.
- Сливицкая О.В. Основы эстетики Бунина // И.А. Бунин: pro et contra / сост. Б.В. Аверин, Д. Риникер, К.В. Степанов. СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 2001. С. 456-478.
- ТюпаВ.И. Тезисы к проекту словаря мотивов // Дискурс. 1996. № 2. С. 52-55.
- Тюпа В.И. К вопросу о мотиве уединения в русской литературе Нового времени // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Выпуск 2. Сюжет и мотив в контексте традиции. Новосибирск: Институт филологии, 1998. С. 49-55.
- Щеглов Ю.К. Из поэтики Чехова («Анна на шее») // Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты - Тема - Приемы -Текст. М.: Прогресс, 1996. С. 157-189.
- Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной...». Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990. 306 с.