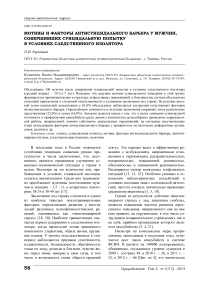Мотивы и факторы антисуицидального барьера у мужчин, совершивших суицидальную попытку в условиях следственного изолятора
Автор: Кузнецов Павел Владимирович
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 4 (17) т.5, 2014 года.
Бесплатный доступ
Обследованы 100 мужчин после совершения суицидальной попытки в условиях следственного изолятора (средний возраст - 39,5±1,7 лет). Показано, что ведущие мотивы суицидального поведения в этой группе формируются преимущественно в структуре депрессивных переживаний, и большинстве случаев обусловлены ситуацией привлечения к уголовной ответственности и условиями заключения под стражу. Вследствие высокой психо-социальной дезадаптации у 61,0% обследуемых наблюдается деструкция естественных факторов антисуицидального барьера. Определённую значимость в ситуации заключения сохраняют лишь религиозные представления (23,0%) и семья (16,0%). Автором делается вывод о том, что в целях снижения суицидальной готовности и профилактики самоубийств среди данного контингента целесообразно проведение коррекционной работы, направленной, помимо собственно депрессивных переживаний, на системное восстановление и/или актуализацию факторов антисуицидального барьера с приоритетом на категории: референтная группа, семья, религия и др.
Суицид, суицидальная попытка, мотивы, факторы антисуицидального барьера, пенитенциарная система, следственно-арестованные, мужчины
Короткий адрес: https://sciup.org/140141449
IDR: 140141449 | УДК: 616.89-008.44
Текст научной статьи Мотивы и факторы антисуицидального барьера у мужчин, совершивших суицидальную попытку в условиях следственного изолятора
В последние годы в России отмечается устойчивая тенденция снижения уровня преступности и числа заключенных, что, несомненно, является отражением улучшения социально-экономической ситуации в стране в целом. Несмотря на это количество лиц, пребывающих в условиях социальной изоляции, остается значительным. Среди них традиционно преобладают мужчины (соотношение мужчин и женщин – 5,5 : 1), в возрастных категориях 18-24 и 30-49 лет [17].
Заключение под стражу относится к одним из наиболее тяжелых психотравмирующих факторов, определяющих развитие у многих людей различных психофизиологических реакций, оцениваемых как «пенитенциарный стресс» [18, 20]. Наиболее травматичным считается период содержания в следственном изоляторе, когда происходит ломка привычного жизненного стереотипа, образа жизни, крушение планов. У многих подследственных в этот период наблюдаются признаки угнетённости, подавленности, безнадежности, обречённости, тоски по дому, родным и близким, чувство вины перед ними, неверие в свои силы, в том числе в возможность снова обрести прежний статус. Это нередко ведет к аффективным реакциям с возбуждением, напряженным отношением к окружающим, раздражительностью, нетерпимостью, повышенной ранимостью, обидчивостью и завышенной реактивностью. Расширяется спектр возможных конфликтных ситуаций [13, 15, 22]. Особенно уязвимы в отношении неблагоприятных воздействий в условиях изоляции лица с психической патологией, частота которых значительно превышает среднепопуляционные [1, 3, 18].
Одним из результатов действия пенитенциарного стресса у лиц, лишенных свободы, является повышение частоты развития агрессивного поведения, направленного как во вне (как правило, на окружающих, в том числе сотрудников исправительного учреждения), так и на себя, крайним проявлением которого является самоубийство [3, 4, 21].
Несмотря на комплексные меры профилактики, проводимые в последние годы, отмечается рост числа самоубийств в системе ФСИН. В расчете на 100000 подозреваемых, обвиняемых, осужденных уровень суицидов в 2009 г. составил 49, в 2010 г. – 56, в 2011 г. – 52, в 2012 г. – 66 [Цит. по 5], что значительно превышает показатель в среднем по стране в аналогичные периоды.
Уровень суицидальной смертности является важным демографическим индикатором, однако для разработки дифференцированной профилактической работы важны и другие показатели, отражающие суицидальную активность контингентов: частота самоповреждений, суицидальных попыток и др., данные о которых в доступной литературе неоднозначны. Так, по наблюдениям В.Л. Дресвянникова и А.И. Простякова [7], у лиц с верифицированным нарушением адаптации, находящихся в судебной или судебно-медицинской ситуации, агрессивные проявления регистрируются в 53,1%, а суицидальные тенденции – в 40,6% случаев. В исследованиях А.М. Сысоева [20] показано, что частота самоповреждений в исследуемом контингенте может достигать 19%. Зарубежные авторы [25] приводят более высокие показатели – до 37%.
По оценкам М.Г. Кузнецовой и Е.Н. Фоменко [12] в следственных изоляторах УФСИН России по г. Москве в 2009 г. в общей структуре деструктивных форм поведения заключенных под стражу (n=175) преобладали членовредительства и самоповреждения (68,0%). Значительно реже регистрировались отказы от приема пищи и голодовки (11,4%), групповые конфликты с сокамерниками (8,6%). Доля суицидальных попыток составила 6,9%, завершенных суицидов – 5,1%.
При анализе этих данных обращает внимание довольно низкий процент суицидальных попыток и их соотношение к числу завершенных суицидов (в общей популяции – от 8 до 15 к 1). Вполне логично допустить, что такая статистика связана с достаточно тонкой гранью между отдельными формами деструктивного поведения и отнесением суицидальных действий к категории членовредительства и само-повреждений. Это указывает на необходимость комплексной дифференциальной диагностики, и, в частности, более глубокого анализа мотивов и конечной цели аутоагрессивного поведения, так как выделение группы потенциально суицидоопасного контингента и привлечение целенаправленных мер профилактики может снизить показатели суицидальной летальности.
Основными пенитенциарными причинами аутоагрессивной активности лиц, содержащихся под стражей, являются: конфликт с представителями администрации исправительного учреждения (реакция на законные требования, факты притеснения); конфликт с другими осужденными (физическое, психическое насилие, принуждение к вступлению в гомосексуальную связь, долги), приобретение авторитета в глазах других подследственных (осужденных), раскаяние в содеянном, отсутствие жизненной перспективы после отбывания наказания, несогласие с приговором суда [6, 11, 19].
Помимо этого к ведущим предикторам са-моповреждающего поведения относят депрессию и чувство безнадежности. В частности, S. Brown [24] показано, что заключенные с более высокой степенью одиночества проявляют более высокий уровень депрессии, безнадежности и индикаторов суицидального поведения, что в целом согласуется с данными других авторов [3, 14, 16, 23].
С другой стороны, для сохранения адекватного уровня адаптации к стрессовым пенитенциарным факторам, а так же способности противостоять их просуицидальному влиянию, необходима сохранность целого ряда психосоциальных категорий, среди которых важное место традиционно занимают личностные, духовные ценности, семья, близкие и др. [2. 8].
Таким образом, несмотря на имеющиеся исследования в этой области, изучение суицидальной активности заключенных является важной медико-социальной задачей, требующей анализа самых различных аспектов этой проблемы. Одним из таких направлений является анализ мотивов и факторов антисуици-дального барьера исследуемого контингента.
Цель исследования: оценка мотивов и факторов антисуицидального барьера у мужчин, совершивших суицидальную попытку в условиях следственного изолятора.
Материали и методы.
Основную группу исследования составили 100 следственно-арестованных мужчин, совершивших суицидальную попытку. Возраст обследуемых – от 14 до 65 лет (средний – 39,5±1,7 лет). Все мужчины в постсуицидальном периоде наблюдались в медицинской части СИЗО.
Включение в основную группу исследования проводилось при отнесении регистрируемых аутоагрессивных действий к покушениям на самоубийство. Оценивался характер, мотивы действий, наличие внешних признаков – вербальные проявления, суицидальные угрозы, шантаж и др. После анализа всего комплекса данных исключались случаи, квалифицируемые нами как самоповреждение с неопределёнными намерениями («на спор», игра в карты и др.).
Группа сравнения включала 100 мужчин общей популяции, совершивших суицидальную попытку, в период проведения исследования не находящихся под стражей / следствием и не привлекаемых ранее к уголовной ответственности. Мужчины этой группы после совершенной суицидальной попытки наблюдались в амбулаторно-поликлиническом отделении и Центре суицидальной превенции ГБУЗ ТО «Тюменская областная клиническая психиатрическая больница».
Группа сравнения подбиралась с учетом критериев сопоставимости с основной группой исследования по полу, возрасту и виду суицидальных действий (попытка).
Методы исследования: клинический, клинико-психопатологический, статистические.
Результаты и их обсуждение.
Оценка реализованных покушений на самоубийство показала, что ведущим способом в обеих группах являлись самопорезы (табл. 1).
Таблица 1
Способы суицидальных попыток мужчин исследуемых групп
|
Способ суицидальной попытки |
Основная группа |
Группа сравнения |
||
|
n |
% |
n |
% |
|
|
Самопорезы, в том числе проникающие ранения |
60 |
60,0 |
54 |
54,0 |
|
Проглатывание инородных тел |
27 |
*27,0 |
1 |
1,0 |
|
Самоповешение |
13 |
13,0 |
10 |
10,0 |
|
Самоотравление |
— |
— |
23 |
23,0 |
|
Падение с высоты |
-- |
— |
9 |
9,0 |
|
Самострел |
-- |
— |
3 |
3,0 |
|
Итого: |
100 |
100,0 |
100 |
100,0 |
Примечание: *различия достоверно значимы (р<0,05)
Частота повреждений целостности кожных покровов с суицидальной целью среди заключённых под стражу составила 60,0%. Из них в 43 случаях подследственные для нанесения поверхностных самопорезов использовали лезвие бритвы («мойку»), реже, проволоку (n=6) или осколки стекла (n=4). При этом раны локализовались не только на предплечьях, локтевых сгибах, но и наблюдались в области шеи
(n=13), реже - грудной клетки, живота (n=8). В 9 случаях повреждения включали две и более зон тела. У семи человек причинённые раны носили более глубокий, проникающий характер. С помощью «заточки» из ложки, вилки или гвоздя, в одном случае острым предметом, изготовленным из хлеба, обожжённым определённым образом, что сделало его твёрдым, как камень, заключенные наносили повреждения в области грудной клетки или живота.
В группе сравнения доля мужчин, сделавших выбор в пользу самопорезов, была так же высока - 54,0% (n=54). Однако в отличие от заключённых под стражу большинство использовали нож (n=32). В остальных случаях выбор останавливался на других колюще-режущих, преимущественно металлических предметах (лезвие бритвы, шило, стамеска, ручная пила и др.). В подавляющем большинстве случаев выбор средств суицидальной попытки этих лиц носил ситуационно обусловленный характер и определялся доступностью данного средства в настоящий момент.
На втором месте по частоте, регистрируемый у 27,0% заключённых, был приём с суицидальной целью инородных тел внутрь. В группе сравнения такой вариант носил скорее казуистический характер, и был отмечен у одного исследуемого. В структуре принимаемых внутрь инородных тел заключенными преобладало заглатывание шурупов-саморезов (n=12) и сапожных гвоздей (n=8). В двух случаях сочетание гвоздей и «скруток» из проволоки. Среди других инородных тел, принятых внутрь с суицидальной целью, были металлическая производственная стружка (n=3), осколки стекла лампочки накаливания (n=1) и мелкие кусочки лезвия бритвы (n=1).
Анализ этих случаев свидетельствовал о том, что заключенные достаточно тщательно готовили попытку, сохраняли использованные лезвия, накапливали шурупы и гвозди, надпиливая их. Шурупы предварительно выворачивались из строительного материала или стен помещений. Гвозди чаще добывались из обуви.
На третьем месте по частоте были попытки самоповешенья, регистрируемые у 13,0% подследственных и 10,0% мужчин группы сравнения. При этом, если последние для реализации суицида во всех случаях использовали бытовую веревку, то лица заключенные под стражу выбирали подручные средства: скрученный жгут из обрывков постельного белья (n=8), ремень (n=3) или шнурки от обуви (n=2). Выбор такого способа суицида, не всегда характеризовался шантажностью. Семи мужчинам основной группы и шести группы сравнения спасти жизнь помогла вовремя оказаная помощь.
Другие способы суицидальных действий регистрировались лишь в группе сравнения: попытка самоотравления - 23,0%, падение с высоты - 9,0%, самострел - 3,0%. В основной группе подобных видов попыток не отмечалось.
Таким образом, результаты исследования показали, что среди заключённых под стражу, ведущими способами покушений на суицид являются самопорезы и проглатывание инородных тел. Такие предпочтения в большинстве случаев можно объяснить условиями режимного учреждения, а так же характером суицидальной активности - достоверным (P<0,05) преобладанием среди следственноарестованных шантажных форм суицидальной активности - 71,0% (группа сравнения -53,0%).
В ходе исследование было установлено, что суицидальное поведение у следственноарестованных мужчин формировалось преимущественно на фоне депрессивных расстройств, синдромальная структура которых была представлена тревожно-депрессивным (50,0%), астено-депрессивным (11,0%) и апато-депрессивным (5,0%) симптомокомплексами. В 19,0% случаев суицидальная активность проявлялась на фоне истерических нарушений.
Квалификация психических нарушений в соответствие МКБ-10, коморбидных с психическими расстройствами показала, что у большей части исследуемых обеих групп (основная - 41,0%; сравнения - 57,0%) регистрировались расстройства адаптации (F43). Для подавляющего большинства следственно-арестованных потенцирующим стрессовым фактором, безусловно, являлось заключение под стражу.
Категория F32 - «Депрессивный эпизод» регистрировалась у 40,0% мужчин основной и 32,0% группы сравнения. При этом у большинства следственно-арестованных формирование психических нарушений на первых этапах определялось психогенными факторами, связанными с ситуацией заключения под стражу, условиями содержания. Однако в отличие от расстройств адаптации (F43), где факторы пенитенциарного стресса обычно составляли ос- нову переживаний обследуемых практически на всем протяжении пребывания в СИЗО, при депрессивном эпизоде характер представлений претерпевал изменения. Значимость внешних психогенных факторов постепенно уходила на второй план, замещаясь идеями о смысле жизни, наказания. Имеющаяся у многих вначале тревожная симптоматика постепенно регрессировала, оставляя место собственно депрессивным симптомам. Клинически регистрировалось снижение интересов, усиление утомляемости, истощаемость, нарастание ангедонии. Нередко эти заключенные указывали на навязчивые представления о своём пребывании в колонии, утрате здоровья. О том, что по выходу из колонии будут никому не нужны: «… жизнь пройдет мимо ...».
Данные оценки психического состояния и целенаправленного опроса показали, что признаки так называемого «пенитенциарного стресса» присутствовали у всех заключенных. И именно условия ограничения свободы в большинстве случаев выступали в качестве просуицидальных факторов. Основными среди мотивов были названы: участие в судебноследственных действиях (75,0%); ломка жизненного стереотипа (60,0%); конфликты между обвиняемыми в условиях вынужденной скученности в камере (41,0%); ожидание наказания и страх перед ним (33,0%); представления о бесцельности дальнейшего существования (30,0%); утрата надежды на изменение к лучшему (19,0%) и др.
Проведенный анализ так же показал, что актуальность мотивов у следственноарестованных может определяться сроками пребывания в СИЗО. Можно было выделить основные временные интервалы, в которых доминируют те или иные мотивы. Так в период до двух месяцев большинство мотивов суицидальной активности были обусловлены преимущественно участием в судебно - следственных действиях и собственно-депрессивными переживаниями, связанных с ограничением свободы. В сроки от двух до шести месяцев преобладали конфликты с другими обвиняемыми и недостаток информации от близких. Через 6 месяцев после пребывания в СИЗО повышалась роль ожидания наказания, защита своих прав и связанные с ними депрессивные переживания. В основной группе исследования в период до двух месяцев суицидальные попытки совершили 52,0% мужчин, с 2 до 6 ме- сяцев - 27,0%, после 6 месяцев пребывания в СИЗО - 21,0%. Средний период в целом по группе составил 2,8±0,4 месяца.
К просуицидальным факторам можно отнести и тяжесть криминальных действий, за которые обследуемые привлекаются к уголовной ответственности, и ожидаемые длительные сроки наказаний. Так, за совершение особо тяжких преступлений (ст. 105, ст. 111, ст. 162, ст. 132 УК РФ), было привлечено - 68,0% подследственных; средней тяжести (ст. 161, ст. 318, ст. 117, ст. 228 УК РФ) - 18,0%, и за менее тяжкие (ст. 158, ст. 116, ст. 166, ст. 119 УК РФ) - лишь 14%. Из особо тяжких - за убийство (ст. 105 УК РФ) был привлечен 31,0% обследуемых; 14,0% - за насильственные действия сексуального характера (ст. 131, ст. 132 УК РФ); 9,0% - нанесение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и разбойное нападение (ст. 162 УК РФ). Таким образом, среди мужчин, совершивших суицидальную попытку, доля привлекаемых по более тяжелым статьям Уголовного кодекса наиболее высока.
У мужчин группы сравнения структура ведущих мотивов значительно отличалась. Преобладали переживания психо-социального и депрессивного спектра: конфликты в семье (94,0%); чувство одиночества и ненужности (73,0%); утрата надежды на изменение к лучшему (41,0%); представления о бесцельности дальнейшего существования (32,0%) и др.
При сравнении обеих групп обращало внимание, что в среди ведущих мотивов следственно-арестованных достоверно реже (р<0,001) указывалось чувство одиночества и ненужности лишь в 5,0% случаев, в то время, как у мужчин, находящихся на свободе, этот мотив преобладал - 73,0%. Такая на первый взгляд парадоксальная ситуация, вполне может быть объяснена следствием длительной и многокомпонентной психо-социальной дезадаптации, нарушением межличностных отношений с близкими, семьей, что в целом подтверждалось данными о дисгармоничности отношений и семейном положении, недостатке образования и др. у следственно-арестованных. В конечном итоге это могло привести к обесцениванию данного мотива в традиционном его понимании. Нередко у заключенных его может компенсировать формируемое в условиях пенитенциарной системы чувство принадлежности в определенной группе, масти и др.
Наблюдения за мужчинами так же показали, что отражением меньшей субъективной значимости отношений, либо сознательно подавляемого желания общения с семьёй и близкими, может служить наличие и объем переписки. Проведенный нами анализ показал, что в среднем в течение 1 месяца на 100 заключенных приходится 11,0±1,4 писем близким, в то время как количество жалоб и требований, направленных ими в различные инстанции за тот же период было значительно больше -28,0±3,7. При этом близким в большинстве случаев писали лица с зависимыми и истерическими чертами личности. В вышестоящие инстанции направляли письма преимущественно мужчины с истерическими и эмоциональнонеустойчивыми (возбудимыми) типами характера.
Отношения с близкими / семьей традиционно относятся к важным элементам психологической компенсации, в том числе ограничивающих суицидальную активность индивида, что позволяет их рассматривать в качестве ведущих факторов антисуицидального барьера [2, 8].
Проведенные исследования показали, что в острый постсуицидальный период 61,0% следственно-арестованных вообще отрицали наличие каких-либо сдерживающих факторов, в том числе страха смерти, негативное отношение к самоубийству в обществе и др. Лишь 23,0% указывали на роль религиозных представлений, а 16,0% - на значимость семьи и близких людей. Эти данные позволяют сделать вывод о выраженной деструкции естественных культурально обусловленных и психологически важных факторов антисуицидального барьера.
Обследование мужчин общей популяции выявило ещё большую частоту (74,0%) отрицания сдерживающих факторов, что может указывать на общий, и, вероятно, универсальный характер психологических процессов в остром постсуицидальном периоде. Обращал внимание, как и в группе следственноарестованных, низкий показатель роли семьи и близких (14,0%), что согласовывалось с высоким удельным весом чувства одиночества и ненужности в структуре мотивов этих лиц. Эти данные подтверждали ведущую роль семейных факторов в суицидальной активности мужчин общей популяции.
Религиозные аспекты указывались в группе сравнения лишь в 5,0% случаев. Достоверно большая частота религиозных факторов (23,0%; р<0,01) в группе следственно - арестованных, вероятно, так же отражает ситуацию социальной изоляции, ограничения возможности общения. Религия в этих условиях может оказывать значительный адаптивный эффект, тем более, что во многих учреждениях пенитенциарной системы открыты комнаты для отправления религиозных культов и храмы, работа которых поддерживается руководством. Среди обследованных 16,0% мужчин указали, что обратились к религии впервые именно после заключения и совершения суицидальной попытки в СИЗО, то есть целенаправленно актуализировали данный психологически важный компенсаторный механизм.
Полученные в ходе исследования данные указывают возможные направления психологической коррекции и профилактики суицидального поведения как у следственноарестованных, так и мужчин общей популяции, что в целом согласуется с данными литературы [5, 9, 10]. Принципиально важным, на наш взгляд, являлся принцип факторной направленности, который определяет качественные и количественные изменения психотерапевтической помощи – ориентация и работа с преимущественным воздействием на ведущие мишени двух основных групп: негативные (факторы стресса) и позитивные (факторы компенсации и антисуицидального барьера).
Выводы.
-
1. Ведущие мотивы суицидального поведения следственно-арестованных формируются преимущественно в структуре депрессивных переживаний и в большинстве случав обусловлены ситуацией привлечения к уголовной ответственности и условиями заключения под стражу.
-
2. Вследствие высокой психо-социальной дезадаптации у 61,0% мужчин, совершивших суицидальную попытку в условиях следственного изолятора, наблюдается деструкция естественных факторов антисуицидального барьера. Определённую значимость в ситуации заключения сохраняют религиозные представления (23,0%) и семья (16,0%).
-
3. В целях снижения суицидальной готовности и профилактики самоубийств среди данного контингента целесообразно проведение коррекционной работы, направленной, помимо собственно депрессивных переживаний, на системное восстановление и/или актуализацию факторов антисуицидального барьера с приоритетом на категории: референтная группа, семья, религия и др.