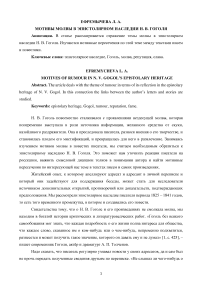Мотивы молвы в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отражение темы молвы в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя. Изучаются мотивные пересечения по этой теме между текстами писем и повестями.
Гоголь, молва, репутация, слава, эпистолярное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/147249317
IDR: 147249317 | УДК: 82
Текст научной статьи Мотивы молвы в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя
-
Н. В. Гоголь повсеместно сталкивался с проявлениями вездесущей молвы, которая попеременно выступала в роли источника информации, желанного средства от скуки, назойливого раздражителя. Она и преследовала писателя, разнося мнения о его творчестве, и становилась плодом его мистификаций, и превращалась для него в развлечение. Занимаясь изучением мотивов молвы в повестях писателя, мы считаем необходимым обратиться к эпистолярному наследию Н. В. Гоголя. Это поможет нам уточнить реакции писателя на россказни, выявить смысловой диапазон толков в понимании автора и найти мотивные пересечения по интересующей нас теме в текстах писем и самих произведениях.
Житейский опыт, к которому апеллируют адресат и адресант в личной переписке и который они задействуют для поддержания беседы, может стать для исследователя источником дополнительных открытий, противоречий или доказательств, подтверждающих предположения. Мы рассмотрели эпистолярное наследие писателя периода 1825 – 1841 годов, то есть того временного промежутка, в которое и создавались его повести.
Свидетельства тому, что о Н. В. Гоголе и его произведениях не смолкала молва, мы находим в богатой истории критических и литературоведческих работ. «Гоголь без всякого самообожания мог знать, что каждая подробность о его жизни полна интереса для общества, что каждое слово, сказанное им о ком-нибудь или о чем-нибудь, непременно подхватится, разнесется и может получить такое значение, которого он давать ему и не думал» [1, c. 425], – пишет современник Гоголя, актёр и драматург А. П. Толченов.
Надо сказать, что писатель регулярно узнавал новости у своих адресатов, да и сам был не прочь передать полученные сведения друзьям по переписке. «Не слышал ли чего-нибудь о ком-нибудь или о чём-нибудь», - такая семантическая формула оказывается одной из частотных для эпистолярия Н. В. Гоголя. Жадный до новостей и подробностей, он с трепетом относится к самой возможности узнавать известия, скучает, не получая новостей от друзей и родственников, и обязательно журит их за долгое молчание. Письма - один из способов проверить услышанное, разузнать детали происшествий, проведать об интересующих событиях или людях, понять, что занимает знакомых, и сохранить связь с Россией, пока Гоголь находится за границей.
В торопливое перечисление просьб, череду расспросов, рассказов о происходящем писатель нередко добавляет какую-нибудь затейливую житейскую историю. Сама действительность, порождающая толки, побуждает к тому, чтобы реагировать на доносящиеся слухи. «Отчего же изредка не быть творителями пустяков, когда ими пестрится жизнь наша», - убеждён писатель [2, с. 64]. Внешний новостной импульс нужен Гоголю, чтобы внести разнообразие в привычный ход жизни, поэтому отсутствие известий воспринимается им как индикатор однообразия: «никакая новость и внезапность не потревожила мирной и однообразной моей жизни» [2, с. 141]. Говоря о своей манере письма, автор признавался, что обилие работы и дел благотворно на него влияет, способствуя занятиям творчеством. «<…> Ему нужна была суета, чтобы разговаривать с человеком» [3, с. 30], - комментирует В. Е. Багно, тем самым подтверждая, что живость, динамика смены настроений или событий, неравновесное начало, суматошность будут во многом определять поведение Гоголя, как, впрочем, и его персонажей.
Одним из важнейших аспектов в отношении молвы для писателя становится вопрос доверия к россказням. Гоголь не раз остерегает адресатов от слепой веры в чужие слова и сам подвергает сомнению услышанное. В письме двоюродному дяде П. П. Косяровскому, он будет рассуждать про весть о войне, которая не только «рыскает» [2, с. 113] по Полтаве, но уже просочилась в Нежин: «по пословице Романа Ивановича: не всякому слуху верь, я стою над нею в раздумьи, верить или не верить» [2, с. 113]. Такое умышленное проговаривание не до конца ясного известия не столько показывает отношение к нему сомневающегося Гоголя, сколько провоцирует на получение подробностей и новых известий, то есть опровержение или подтверждение самого повода. Неполная, непроверенная информация не раз озадачит писателя, подталкивая его к расспросам (в качестве примера можно привести и слухи о женитьбе Жуковского, и многочисленные вести об имущественных делах, и толки о приезде в Рим будущего царя Александра II).
Другой показательный для нас случай, заставивший Гоголя рассуждать об истинности гуляющих вестей, находим в его письме матери, в котором адресанту приходится отрицать авторство приписываемых его перу сочинений: «Пожалуйста, не приписывайте мне чужих сочинений. Неужели вас не научили беспрестанные ошибки в предположениях?» [2, c. 314]. И сразу после указания на шаткость всезнающей молвы, Гоголь выказывает свой страх относительно распространения подобных нелепиц, а следом идёт привычная лукавая оговорка и снижение важности самого слуха: «Впрочем, это такие пустяки, о которых нечего говорить, и мне это ни мало не обидно» [2, c. 314]. В своих повестях Н. В. Гоголь регулярно будет использовать подобные переходы от умножения смыслов молвы через обилие версий и интерпретаций к их низведению или простодушному непризнанию.
Интонации сомнения и недоверия («точно ли притом вы уверены, что люди действительно добры? Ведь им самим верить нельзя. Этот народ лукав» [2, c. 250]) в гоголевских письмах могут принимать формы наставнического поучения и настоятельного предостережения («Будьте спокойны <…> и не слушайте никаких глупостей, разносимых ничтожными людьми. Прежде нежели вы решитесь верить человеку, рассмотрите наперед его внимательнее, достоин ли он того, чтобы верить ему» [2, c. 187]). Мышление «наперед» определяет осмотрительность Гоголя в том, чтобы не давать повод для пересудов (это касается прежде всего семейных и имущественных дел). Опасаясь злых толков, он беспокоится о матери: о возможной прибыли от фабрики знает «вся уже округа» [2, c. 303]. Именно через ситуацию слухотворчества раскрывается собирательный образ соседей. Гоголь указывает на возможные последствия разошедшегося известия: «Это, несмотря на всё доброжелательство видимое, всегда возбуждает зависть; а зависть нечувствительно ведет за собою ненависть, и вы вдруг приобретете себе недоброжелателей» [2, c. 304]. Недоверчивое отношение к окружению обобщено до риторического вопроса о всем человечестве: «Но кто знает людей? Как многие из них долго могут носить личину и казаться совершенно не тем, чем они есть на самом деле» [2, c. 303]. Такое наложение двух планов: частного и общего, характерно для гоголевской поэтики. В числе случаев, натолкнувших рассказчика в повестях на переход к лирическому отступлению, встречаются и те, что связаны с мотивами молвы: например, свадебный шум «Сорочинской ярмарки» наводит размышления о скуке, а беседы на Невском проспекте оборачиваются новым миражом и ведутся совсем не на темы, о которых мог бы подумать читатель.
При этом самому Н. В. Гоголю верить можно было далеко не всегда. Например, в письме публицисту, издателю М. П. Погодину от 23 марта 1835 года адресант просит дать в «Московские ведомости» объявление о сборнике «Арабески». Зная убеждающую силу печатного слова на читателей, Гоголь пытается искусственно привлечь внимание к своим произведениям: «Сделай милость, в таких словах: что теперь, дискать, только и говорят везде, что об Арабесках, что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (NB/ до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому подобное» [2, с. 358], – рассчитывать на набор хвалебных клише будет не только писатель, но и его герой Чартков, чья репутация модного живописца строится как раз на удачном газетном объявлении.
Чувствуя силу авторитетного мнения и принимая в расчет манипулятивный характер озвученной оценки, Гоголь признается в письме матери от 12 апреля 1835 года: «Чтобы придать более весу словам моим говорил, что советовался с опытными мастерами, между тем как это было просто мое мнение» [2, с. 360]. Этот речевой «приём» ссылки на авторитетное стороннее лицо или безусловное большинство воплотится в частности в эпизодах «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: выдавая нужную характеристику за известную «всему свету» герои пытаются возвести сказанное в разряд речевого абсолюта, аксиомы, не требующей доказательств (Городничий об Иване Ивановиче: «Это всему свету известно, что вы человек ученый, знаете науки и прочие разные предметы» [4, с. 259], из жалобы Ивана Ивановича: «Известный всему свету своими богопротивными <…> поступками дворянин Иван Никифоров <...> учинил мне смертельную обиду» [4, с. 248]).
Передавая сюжеты толков, писатель во многих случаях указывал на их источник . Встречаются отсылки как к расплывчатому множеству субъектов и нулевым личным субъектам («бывшие с ним [Г. И. Шостаком] в коротких связях говорят» [2, с. 190], «со всех сторон доходят слухи и стращают о неурожае» [2, с. 308], «мне наговорили, что детская история Полевого хорошее сочинение» [5, с. 32], «здесь пронеслись слухи» [5, с. 33], «а между тем я слышу беспрестанно даже сюда в Италию пробирающиеся слухи о чудесах, производимых посредством лечения холодною водою в Грефенберге» [5, с. 219]), так и к конкретным лицам («слышу, что в ней есть много хорошего; по крайней мере мне так говорил Жуковский» [2, с. 291], «cкажу тебе, что Красненькой заходился не на шутку жениться на какой-то актрисе с необыкновенным, говорит, талантом, лучше Брянского – я ее, впрочем, не видел» [2, с. 252]).
Отдельное место в ряду распространителей молвы занимают гоголевские «все», «всё», или «некоторые, заслуживающие особого уважения». Отсылки к этим характерным для процесса слухообразования субъектам не только станут отличительной чертой поэтики писателя, но и помогут уверенно высказываться в частных обсуждениях, отстаивая своё мнение. Нежелание отправлять матери «Библиотеку для чтения», Гоголь объяснит однозначным «приговором» читателей, которым стоит доверять: «Все порядочные люди и великие писатели от него отказываются; в высшем кругу его никто не читает» [2, с. 331].
Гоголевское восприятие своего окружения то гиперболически расширяется до «всех» (вспомним, к примеру, реакцию Гоголя на первую постановку комедии «Ревизор» в апреле 1836 года: «Все против меня» [5, с. 38] – или характеристику «Старосветских помещиков» и «Тараса Бульбы», которые, по мнению автора, «нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам» [5, с. 98]), то принимает форму литотного сокращения до «нескольких» порядочных людей, имеющих право на оценку. Символом авторитетного мнения становится, в частности, фигура Пушкина, чье суждение способно перевесить остальные голоса: «Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его [Пушкина] вечное и непреложное слово» [5, с. 91], – так писатель отзовётся на смерть Пушкина в письме Погодину. Гоголевские трансформации пространства общения лежат в границах между властной всеведущей массовостью и авторитетным узким кругом. Важной для писателя становится не столько количественная характеристика субъектов россказней, сколько качественная – кто именно определяет содержание толков.
Мучительные размышления о сути искусства, писательской славе, репутации творца преследовали Гоголя в России и за границей, во время его работы над произведениями и в перерывах между ними. Переживания о своём московском «скучном» поведении писатель доверит Е. В. Погодиной, подчеркивая, что «мнением людским, конечно, я не дорожу, но мнением друзей…» [5, с. 318]. Однако интересовали Гоголя, конечно, оценки не только знакомых, но широкого круга читателей, литераторов, критиков. Именно через приятелей по переписке автор получает «обратную связь» о своих произведениях. «Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове» [6, c. 75], – напишет в письме С. Т. Аксаков и передаст всё, что успеет услышать. Поток слухов становится для Гоголя регулятором его писательского труда, источником интерактивности, помогающим собрать веер сторонних мнений.
Пылкость, с которой Гоголь рассуждает обо всем, что связано с процессом или результатами творчества, выделяет среди предметов молвы толки о произведениях литературы и искусства . Они, хоть и беспрестанно порождают пересуды, требуют, по мнению писателя, деликатности в суждениях. Ревностное отношение к молве вокруг результатов творческого процесса заставляет Гоголя неоднократно подчеркивать, как непросто понять авторский замысел и как мало людей могут со всей тонкостью подойти к оценкам произведений литературы и искусства: «Знаете ли, что в Петербурге, во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а между тем в Петербурге есть множество истинно прекрасных, благородных, образованных людей» [2, с. 362], «Я не знаю, что за охота пришла нашим судить и рядить о литературе. Я знал много людей, которых почитали умными, хорошими хозяинами и даже сведущими во многом; но когда эти люди захотят непременно судить и сообщать другим свои суждения, то их без смеха нельзя слушать» [2, с. 331]. Гоголь с опаской и неодобрением отзывается о пустословии вокруг творчества: неудивительно, что и о ходе работы над своими произведениями он не любил распространяться.
Касаясь тем молвы, Гоголь отмечает негативные коннотации , которые присущи слухам. Летучее слово может быть символом легковерного и легковесного мнения, доставлять беспокойство своими обидными прибавлениями, способно расстраивать предмет обсуждений. В письмах Гоголя неоднократно встречается лексема «сплетни», которая зачастую становится знаком несправедливого, неприятного, досадного мнения. Реакция на них писателя однозначна: «все эти сплетни от таких людей мне столько же приносит неудовольствия, сколько может принесть его неважное ни для кого происшествие» [2, с. 188], «не люблю расславлять худого про кого бы то ни было» [2, с. 188].
Однако сплетни о знакомых не раз встретятся в эпистолярии Гоголя. К примеру, в письме Репниной он расскажет анекдотичные случаи про некого Базилевского, задающего о Риме нелепые вопросы [2, с. 194], Данилевскому выскажет слухи про Квитку [5, с. 199] и Краевского [5, с. 212], Жуковскому не преминет пожаловаться на «подлеца Лауница» [5, с. 201], который не прислал обратно бюст Василия Ивановича, в письме Балабиной в подробностях передаст историю влюбленности ее приятельниц Конти и роман «одного из фамилии Дориев» [5, с. 184].
В оценочных суждениях Гоголя можно выделить смысловую оппозицию «слово – дело» , отраженную также в ряде пословиц и поговорок. В эпистолярии, равно как и в творчестве писателя, эта дихотомия обрастает антитетическими свойствами «бесполезного и важного», «плохого и хорошего». «Толкуют о добродетели [люди], о Боге, и между тем не делают ничего» [2, с. 195], - пишет Гоголь матери из Петербурга 2 октября 1833 года. Позже он упрекнет в том же суесловии московских литераторов в письме Погодину: «вы все только на словах» [2, с. 353]. В повести «Тарас Бульба» автор покажет действенную силу боевого призыва и расславления, определяя с их помощью значение ратных подвигов. Категории «сказанного - сделанного» в данном случае гармонично соединятся благодаря включению в текст элементов воинской риторики. Связующим звеном между действием и словом выступит слава о героях, которая передается из поколения в поколения, создает миф о воинстве Сечи и в то же время вдохновляет на подвиги, настраивает на личные боевые успехи. Оппозиция вечной славы и сиюминутного признания станет одной из сюжетослагающих в повести «Портрет». Противопоставление признания, которого достоин истинный мастер, и искусственно раздутой репутации модного живописца окажется созвучным гоголевскому рассуждению из переписки с Н. Я. Прокоповичем: «Одна только слава по смерти <...> знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки. Но ты должен узнать ее» [5, с. 85].
К теме репутации Гоголь будет возвращаться в письмах разных лет, выказывая как ее ожидание, так и безразличие к ней. Вот лишь несколько примеров: «лекции мои мало по малу заставляют говорить обо мне» [2, с. 194], «порося мое [первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки»] давно уже вышло в свет: оно успело уже заслужить славы дань, кривые толки, шум и брань» [2, с. 41]. Частотность разговоров о желанной репутации подчеркивает важность, которую обретала для писателя высокая оценка читателей, знакомых и критиков. Cтремление получить одобрение «других»-«многих»-«всех» перейдет в простодушные признания: «Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы» [2, с. 181], «Лучше поступать так, чтобы нас все любили» [2, с. 168].
Резкий переход к отрицанию многоголосой молвы обнаружится в период премьеры «Ревизора» и последующего пребывания писателя за границей. В письме от 29 апреля 1836 года М. С. Щепкину пронзительно прозвучит гоголевское описание своего «равнодушия» к шуму вокруг постановки комедии: «Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос» [5, с. 45]. Рефренное, тройное отрицание своего расстройства относительно пересудов вокруг пьесы ещё сильнее подчеркивает разочарование писателя в поверхностной оценке «Ревизора», обидной, доносящейся со всех сторон молве. В любом случае равнодушием к чужому мнению гоголевские высказывания не назвать. «Уведоми меня о том, что говорят обо мне в Москве» [5, с. 60], – напишет он Погодину из Женевы в сентябре 1836 года, хотя уже через два месяца признается: «Никакие толки, ни добрая, ни худая молва не занимает меня. Я мертв для текущего» [5, с. 77]. Автор «Ревизора» хочет скрыться от молвы, перестав быть предметом пересудов, но не готов отказаться от потока вестей и «московских гадостей» [5, с. 92].
Доходящие слухи даже заставляют Гоголя объясняться перед приятелями по переписке: например, писателю М. Н. Загоскину он подробно объясняет мотивы своего ухода из театра при постановке пьесы, которое «отнесено было к какому-то пренебрежению московской публики, встретившей меня так радушно и произведшей бы <в> иное время благодарные ручьи слез» [5, с. 256]. Это письмо адресант просит показывать всем, кто мог воспринять отсутствие Гоголя как признак «бесчувственности и неблагодарности» [5, с. 256]. Другими словами, узнав о неблагоприятном слухе про себя, он всеми силами пытается оправдать свое поведение и попутными объяснениями вмешаться в циркуляцию разошедшихся летучих вестей. Диапазон столь разных реакций Гоголя (переход от признания значимости к рассеянному безразличию, затем – энергичному «вмешательству» и острому неприятию) доказывают способность молвы воздействовать на эмоциональную сферу человека и провоцировать на незамедлительный отклик.
Для Гоголя новости обладают свойством «рыскать», «пестриться», «заноситься», вводить в заблуждение, раззадоривать. Эпистолярное наследие писателя раскрывает его непреходящее внимание к сюжетам молвы, прежде всего – толкам о своих знакомых и о себе самом.
Гоголь не нивелирует риски молвы, но обладает чутьем обойти или использовать их в свою пользу (к примеру, имитируя правду). Неравновесность информационных поводов вызывает ответную реакцию писателя, который то осмотрительно подвергает слухи сомнениям, то рьяно отстаивает истинную версию, то признается в готовности поверить даже в необычайное. Такие переходы можно рассматривать как особого рода «превращения» – категорию, которая характеризует и жизнь, и творчество писателя.
Гоголь обращался со своим словом мнимо-простодушно, зная цену молчанию и наблюдениям, которые занимали его во время многолюдных встреч, осознавая власть своего творчества и умея удерживать внимание читателей, писателей, критиков.
Список литературы Мотивы молвы в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя
- Толченов А. П. Гоголь в Одессе: (1850 - 1851 г.): (Из воспоминаний провинциального актера) // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников / Ред., предисл. и коммент. С. И. Машинского. - М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. - С. 416-427.
- Гоголь Н. В. Письма, 1820-1835 // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. - Т. 10. - М., 1940. - 540 с.
- Багно В. Е. Пушкинско-гоголевский период русской литературы // Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, Москва - Санкт-Петербург, 5 - 10 октября 2009 года / под ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. - С.-Пб.: Петрополис, 2011. - С. 24-33. EDN: TKRHKV
- Гоголь Н. В. Миргород // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 2. М., 1937. - 764 с.
- Гоголь Н. В. Письма, 1836-1841 // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. - Т. 11. - М., 1952. - 484 с.
- Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем // Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников / Ред., предисл. и коммент. С. И. Машинского. - М.: Гос. издат. худож. лит., 1952. - С. 87-208.