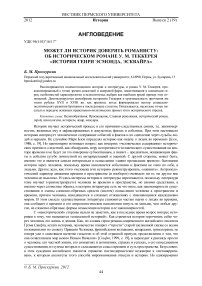Может ли историк доверять романисту: об историческом романе У. М. Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра»
Автор: Проскурнин Б.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Англоведение
Статья в выпуске: 2 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются взаимоотношения истории и литературы, и роман У. М. Теккерея, проанализированный с точки зрения сюжетной и жанровой форм, повествования и концепции героя, особенностей характерологии и психологизма, выбран как наиболее яркий пример этих отношений. Демонстрируются своеобразие историзма Теккерея и оригинальность прочтения им эпохи рубежа XVII и XVIII вв. как времени, когда формировался вектор социально-политического развития Британии в последующие столетия. Показывается, насколько точен писатель в передаче основных нравственно-политических примет этого исторического отрезка.
Великобритания, просвещение, славная революция, исторический роман, герой, психологизм, историзм, жанр, мемуары
Короткий адрес: https://sciup.org/147203408
IDR: 147203408 | УДК: 94(410)"16/17"
Текст научной статьи Может ли историк доверять романисту: об историческом романе У. М. Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра»
Историк изучает историчеcкий процесс в его причинно-следственных связях, т.е. закономерностях, явленных ему в зафиксированных в документах фактах и событиях. При этом настоящего историка интересует человеческое содержание событий и фактов и их сцепление через судьбы людей и народов. Не случайно Марк Блок определял историю как «науку о людях во времени» [ Блок , 1986, с. 19]. Но закономерно возникает вопрос: как измерить «человеческое содержание» исторических причин и следствий, как обнаружить меру историчности человеческого существования на векторе времени и не будет ли это измерение субъективным, а значит – предвзятым, искажающим факты и события сугубо личностной их интерпретацией и оценкой. С другой стороны, может быть, именно это и является самым интересным в осмыслении «давно прошедших времен»: бытование истории через человека, поскольку время наполняется событиями и фактами не само по себе, а людьми. Другое дело, как этого «человека в/из истории» реконструировать, «оживить». Антропологический характер движения времени в пространстве (и наоборот) очевиден: ни то, ни другое вне человека не мыслимо. И здесь интересы истории и литературы пересекаются, поскольку литература тоже изучает («реконструирует») человека во времени и пространстве, но своими средствами, а именно через словесные образы, и история литературы есть не что иное, как закономерности существования и смены словесно-образных средств (систем) осмысления человека в пространстве и времени, причем человека, находящегося в сложных отношениях с изменяющимся каждодневно миром. В этом смысле художественная литература становится частью науки о людях во времени, она сообщает о времени и его антропологическом наполнении ничуть не меньше, чем любые другие, не словесно-образные, формы осмысления истории и ее закономерностей.
С «неисторической» стороны нельзя не заметить, как в последнее время возрос интерес историков к тому, что называется «социальной историей». Как стремится история «прочитать себя» через человека, его жизнь и деяния. Как, по словам героя романа современного английского писателя Грэма Свифта, кстати историка, человечество говорит «“прости” старой заезженной сказке со всеми положенными по сюжету Правами Человека, фригийскими колпаками, кокардами, триколорами, не говоря уже о свистящем шепотке гильотин и об этой странной причуде, представлении о том, что она осчастливила мир неким Новым Началом» [ Свифт , 1999, с. 19], и переходит к рассказу просто о человеке, его частной жизни, его симпатиях и антипатиях, страхах и успехах, о его повседневном существовании, из суммы которых и складывается смысл времени и суть пространства. Безусловно, в этом суждении английского писателя отражено постмодернистское недоверие к «метанарративам», к которым апологеты этого способа миропонимания отнесли и историю. Но одновременно
здесь выражена и общая для мышления конца ХХ в. антропологическая заостренность. Литература же антропологична (и антропоцентрична) изначально, что обнаруживается на всех ее уровнях и во всех ее проявлениях. В том числе, а может быть, и в большей степени, в романе, как самом «челове-коведческом», по М. Горькому, жанре, антропоцентричность которого проявляется дважды: это рассказ одного человека (автора и/или рассказчика) о судьбе другого человека (героя).
Здесь нельзя не вспомнить суждения К. Маркса о писателях XIX в., отставив в сторону его классово-политическую заданность, суждения, в принципе применимого ко всем по-настоящему талантливым писателям: «Блестящая плеяда современных английских романистов, которые в ярких и красноречивых книгах раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые, дала характеристику всех слоев буржуазии…» [ Маркс , 1958, с. 648]. Иначе говоря, литература оказывается способной объяснять миру его самого с высокой степенью адекватности. И все же сомнения историка в объективности воссозданной романистом (драматургом, поэтом, эссеистом) картины жизни – современной или прошлой – имеют под собой определенную почву. Связана она с авторской субъективностью, непременной чертой любого литературного произведения. Теоретик литературы пишет: «Автор <…> определенным образом подает и освещает реальность (бытие и его явления), их осмысливает и оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности» [ Хализев , 2000, с. 54]. Причем чем дальше развивалась литература, тем свободнее в выражении своей позиции становился автор и тем больше, чем хотел, он выражал в произведении. Здесь «работает» то, что называется «непреднамеренность в искусстве», когда, по Д. С. Лихачеву, в произведении взаимодействуют, с одной стороны, сфера сознательных и направленных утверждений, а с другой – те идеи и представления, которые приходят в произведение, минуя авторское сознание, поскольку укоренены в обществе, являются его неотрывными компонентами, маркируют его, определяют его суть [Там же, с. 58].
Взаимодействие этих дух сфер не всегда эксплицировано так, что читатель, будь он даже и литературный критик, может его заметить. Так произошло, например, с Н. Г. Чернышевским, который в рецензия на роман Уильяма Мейкписа Теккерея (1811–1863) «Ньюкомы» (1855), находясь целиком под воздействием самого критичного романа писателя «Ярмарка тщеславия» (1848), утверждал, что тот потерял прежнюю широту общественной перспективы [ Чернышевский , 1948, с. 511–522]. Не будем полемизировать с этой не во всем справедливой критикой: позиция Чернышевского объяснима его радикальной непримиримостью и резкой социальностью его императивов. Но неприятие Чернышевским «Ньюкомов» помогает четче увидеть эволюцию творчества Теккерея, плотно вписывающую его в общее движение литературы второй половины XIX в.: художник начинает смотреть на мир глазами не героя (пусть даже и отрицательного), а человека. В предисловии к вышедшему в 1850 г. роману «История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего врага» писатель восклицает: «С тех пор как сошел в могилу создатель “Тома Джонса”, ни одному из нас, сочинителей, не разрешается в полную меру своих способностей изобразить человека». Теккерей выделяет последнее слово и подчеркивает, что он «заслужил упреки многих дам лишь потому, что описал молодого человека, который доступен соблазнам и противится им». «Пусть правда не всегда приятна, но лучше правды ничего нет, откуда бы она ни звучала», – говорит Теккерей [ Теккерей , 1976, с. 7]. А заканчивается роман типично теккереевской фразой: «И, зная, как несовершенны даже лучшие из нас, будем милосердны к Артуру Пенденнису со всеми его недостатками и слабостями: ведь он и сам не мнит себя героем, он просто человек, как вы и я» [Там же, с. 406]. Парадокс заключается в том, что роман «Ярмарка тщеславия» имеет подзаголовок «Роман без героя», а в «Пенденнисе» и «Ньюкомах» Теккерей, обратившись к современности (а не к событиям пусть не очень далекого, но все-таки прошлого), пытается найти истинных героев своего времени, «неторопливо идущих по пути реформ и компромиссов» [ Ивашева , 1974, с. 236]. При этом он соединяет острую типичность воспроизводимых характеров с глубоким проникновением в психологию персонажей и тем самым снижает видимую, очевидную сатиричность, переместив ее в глубину. Не случайно в системности социального анализа «Пенденнис» иногда даже острее «Ярмарки тщеславия».
Теккерей этих лет явно изменил масштаб и пафос воспроизведения действительности: на первый план выдвигаются не отрицательные, как в «Ярмарке тщеславия», а положительные персонажи, однако, не впадающие в беззаботное и благодушное существование, конформистски не сли- вающиеся с обществом, которое не перестало разочаровывать писателя своими ценностями. В. С. Вахрушев справедливо полагал, что положительные герои близки автору, даже сливаются с ним, а значит, перенимают у своего создателя «гамлетовские колебания, сомнения». Вот почему они чаще всего даны «в неуловимых переходах и перепадах настроений» [Вахрушев, 1984, с. 84, 87], их характеры динамичны, хотя и постоянны в основных гуманистических и социальных посылках.
Таков герой, пожалуй, лучшего с художественной точки зрения романа Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра» (1852)1, романа, в котором блестящим образом проявился его талант писателя, владеющего мастерством социально-исторического и одновременно психологического анализа. Это роман, в котором Теккерей выступает писателем, умеющим целостно увидеть и воспроизвести ставшую историей эпоху.
Появлению романа предшествовало имевшее большой успех чтение Теккереем цикла лекций «Английские юмористы XVIII века», при подготовке к которым писатель изучал исторические труды, мемуарную литературу, в особенности перечитывал художественные произведения писателей XVIII в. Интерес к рубежу XVII и XVIII вв. сохранялся у Теккерея на протяжении всей жизни. Он полагал, что это был период, когда формировались основные тенденции современной ему социальной, политической и нравственной жизни; по его мнению, это было время, заложившее «гены» английской социальной и государственной системы, которая и была основным предметом пристального внимания Теккерея. Как писатель-аналитик, он понимал необходимость анализа не только следствий, но и причин.
До «Генри Эсмонда» Теккерей уже обращался к историческому жанру в романах «Кэтрин» (1840) и «Записки Барри Линдона» (1844), в пародии на вальтерскоттовского «Айвенго» под названием «Ревекка и Ровена» (1849). Возвратился Теккерей к прошлому и в романе «Виргинцы» (1859), своеобразном продолжении «Генри Эсмонда». Но только «История Генри Эсмонда» является по-настоящему историческим романом, в котором писатель оригинально рисует эпико-историческую картину прошлого, выступая новатором в области жанра: его роман – и следование уже устоявшейся благодаря В. Скотту традиции исторического художественного повествования, и очевидная полемика с нею. Это проявляется прежде всего в самой концепции прошлого как предмета художественного воспроизведения. Во-первых, Теккерей отказывается от взгляда на исторический процесс как на бессмысленный круговорот, что определяло его социальный пессимизм в 40-е гг., в том числе в «Ярмарке тщеславия». В последующее десятилетие, обратившись к эпохе английского Просвещения, анализу ее специфики в сравнении с современностью, Теккерей приходит к заключению, что с «течением времени человечество меняется к лучшему: нравы европейцев (прежде всего англичан) совершенствуются благодаря росту независимости каждого отдельного индивидуума, обусловленному более или менее последовательным развитием демократии» [ Авраменко , 1992, с. 87].
Теккерей полагает, и здесь его позиция в значительной мере совпадает с позицией П. Мериме, выраженной в романе «Хроника царствования Карла IX» (1829): сдвиги в морали наиболее ярко демонстрируют и сам исторический процесс, и его изменение. Именно в этом ракурсе Теккерей рассматривал XVIII век в очерках, посвященных первым четырем представителям ганноверской династии, пришедшей в 1714 г. к власти в Англии. Отдавая должное прозорливости тех, кто способствовал утверждению на английском троне этой фамилии, главным достоинством эпохи Теккерей полагал череду разумных политических компромиссов: общая умеренность, терпимость, рационалистичность и разумность, ставшие «кумирами» эпохи, при всех ее издержках способствовали стремительному продвижению английского общества вперед. Это привело, по мнению Теккерея, к своеобразной «революции» 1832 г. – главному событию, которое определило современную социально-политическую и нравственную структуру английского общества и создало необходимую инерцию для его поступательного развития. И главный двигатель такого развития – рост чувства собственного достоинства рядового члена общества и чувства социальной ответственности [Там же].
Исходя из этого, писатель предпочитает видеть историю не как череду «деяний великих исторических лиц эпохи», а как «историю житейских дел». Эту мысль герой-рассказчик романа «История Генри Эсмонда» обыгрывает в предисловии к воспоминаниям о событиях своего отрочества, юности и первых лет зрелости до отъезда в Северную Америку, где якобы и была составлена рукопись. Эсмонд, а значит и Теккерей, предъявляет претензии к Музе истории, которая никак не может преодолеть чрезмерное увлечение изображением королей, королев, полководцев. Изображаются они при этом не как живые люди, а как некие куклы, о которых может «плакать» хор, действительно, только «застыв в условной позе» [Теккерей, 1977, с. 17]. Между тем, например, Людовик XIV был всего лишь «маленький, сморщенный старичок с попорченным оспою лицом», а королева Анна – «краснолицей, разгоряченной женщиной»; «ни умом, ни воспитанием она не была лучше нас» [Там же, с. 18]. Не случайно рассказчик уверен, что «мистер Хогарт и мистер Филдинг дадут нашим детям куда лучшее представление о нравах современной Англии» [Там же].
Иначе говоря, трактовавший историю, как и В. Скотт, как череду компромиссов и сюжетно сцеплявший частную судьбу героя с событиями социально-политической значимости, Теккерей делает б о льший акцент на изображении частной жизни человека из прошлого, на реконструкции опыта личного проживания (в случае с Генри Эсмондом – и переживания) истории. Это, конечно, существенно дегероизирует и деромантизирует повествование о прошлом, освобождая его от искусственности, но одновременно способствует тому, что историческая эпоха читается более «по-человечески», будучи пропущенной через внутренний мир героя, нежели через мир внешний, как бы ни был он насыщен конкретно-историческими деталями.
Это не означает, что Теккерей не принимает во внимание эпохальные исторические события, но, по словам исследователя, писатель стремится «проследить влияние истории на судьбу каждого, даже самого незаметного человечка» [ Затонский , 1973, с. 171]. При этом сколь бы индивидуальна ни была эта судьба, писательский интерес сосредоточивается на «природе универсальной человеческой доли, независимо от времени и места» [ Stange , 1962, р. 44].
Вот почему в романе «История Генри Эсмонда» в качестве героя и рассказчика писатель выбирает человека небольшого роста, с не очень красивым лицом, не отличавшегося особым умом и эрудированностью, к тому же – сироту и даже, как он сам и окружающие считают, незаконнорожденного сына дворянина из древнего и славного, но к моменту начала действия романа (1691 г.) утратившего былой блеск рода. Теккерей делает все возможное, чтобы у читателя создалось ощущение, что перед нами обычный человек. И даже слова восхищения в его адрес, сказанные в предисловии дочерью Эсмонда, не только не ослабляют этого впечатления, но и, наоборот, усиливают его благодаря стремлению дочери «приподнять» историю отца и его образ, а самое главное – благодаря тому, что рукопись предназначена внукам полковника Эсмонда: воспитательные цели Рэйчел Эс-монд-младшей очевидны. Погрузившись в историю рядового человека, достойная жизнь которого определялась не титулом или какими-либо привилегиями, а душевными качествами и высоким представлением о чести, Теккерей показывает, сколь значимы для частной жизни, а следовательно, и для большой истории, индивидуальные качества свободного человека, определяющего свою судьбу и несущего ответственность за свои поступки и ошибки прежде всего перед самим собой. Одновременно он исходит из того, что в описываемое им время меняется общая парадигма жизни в Англии, она все более опирается на идеи индивидуальной свободы человека и соблюдения его прав, уходит в прошлое феодально-патерналистская система социально-политического и гражданского устройства общества, уступая место качественно новым нормам организации жизни. Вне этого процесса не была возможна сама судьба Эсмонда в том виде, в каком она состоялась.
Это герой именно теккереевского романа: его судьба складывается отнюдь не беззаботно и радостно. В его жизни немало печального, если не драматичного. Но после больших нравственных и психологических испытаний герой обрел чувство внутреннего достоинства и независимости, определившее его ровное, спокойное, разумное отношение к жизни, чем, по словам его дочери, он особенно снискал уважение на новой родине – в Вирджинии.
Роман стилизован под мемуары XVIII в., что создает б о льший эффект правдоподобия – не только внутреннего, но и внешнего, о котором, как мы знаем, заботился Теккерей и отсутствие которого у Диккенса он не принимал. Как справедливо отмечает Е. Ю. Гениева, В. Скотт тоже стилизовал свои романы под ту эпоху, о которой рассказывал, но у него достаточно было неточностей и анахронизмов, нередко разрушавших «эффект присутствия» читателя в той или иной эпохе. У Теккерея же преобладает «стилизация реалистического типа, основывающаяся в немалой степени на конкретности и достоверности деталей» [История всемирной литературы, 1990, с. 346]. Причем для сохранения иллюзии принадлежности романа к XVIII в. Теккерей настоял, чтобы первое издание книги набиралось старинным шрифтом.
Сосредоточив как будто бы все свое внимание на жизнеописании главного героя и его семьи, сделав акцент на деталях нравов, морали, быта, культуры конца XVII – начала XVIII в., Теккерей достиг главного: ему удалось воспроизвести атмосферу напряженной общественной жизни того времени. И в этом была своя историческая справедливость, так как писатель обращается к той эпохе «великого компромисса», которая определила историко-политическое лицо Британии последующих эпох. Поэтому писатель сосредоточен прежде всего на жизни тех слоев, которые стояли у руля политической власти. Писатель ориентировался на Скотта, отмечая, что его великий предшественник был первым автором, «кто обращался с королями и принцами запросто», и что это «рискованное соединение благоведения и фривольности прекрасно воспринимается читателем» [Colby, 1979, р. 317].
Другое дело, что Теккерей в отличие от иных исторических романистов не погружает читателя в глубокие размышления и теоретизирования по поводу исторического процесса. Повествовательно рассказчик вовсе не стремится проявить свои интеллектуальные и аналитические способности, а основной способ воспроизведения исторической реальности – не мысль как таковая, а, скорее, медитации – в основном в связи с воспроизводимой в воспоминаниях ситуацией прошлого. Современник Теккерея Р. М. Роскоу говорил о герое-рассказчике романа: «Он нигде не проявляет себя мыслителем. И даже его проницательность скорее остра и тонка, чем мудра. Но глубокие и чувствительные ощущения делают его восприимчивым к той сфере, которая лежит на границе между душевными волнениями и интеллектом, “стране” напрасных раскаяний и нежных воспоминаний, скромных надежд и мягкой грусти, полю, всегда дающему обильный урожай в каждой человеческой душе, испытавшей любовь и смерть» [ Stange , 1962, р. XII].
Все повествование романа строится как реконструкция прожитого, поэтому мы редко встречаемся с непосредственным впечатлением о событии или исторической личности и отношением к ним, хотя рассказывает о событиях их участник. Обратимся, например, к рассказу героя-повествователя о кампании 1704 г. и осаде Бонна:
«…и наш молодой джентльмен, приняв посильное участие в осаде, которую здесь нет надобности описывать, остался, по счастью, цел и невредим и после сдачи города пил вместе с другими за здоровье своего генерала. Почти весь этот год он провел в боях и ни разу не испрашивал отпуска, благодаря чему, впрочем, избегнул участи двоих или троих менее счастливых приятелей, потерпевших крушение во время страшной бури, разразившейся в последних числах ноября, той самой, что «на бледную Британию сошла» (как о том пел мистер Аддисон) и потопила десятки лучших наших кораблей и пятнадцать тысяч моряков» [ Теккерей , 1977, с. 252].
Конечно же, прямое изображение-наблюдение событий войны за испанское наследство было бы более наполнено «ароматом» непосредственных переживаний и чувств. Но всякое событие, и это в том числе, в романе предстает через повествовательно обозначенную временную дистанцию, «окрашенным» спецификой памяти, реконструирующей его. Поэтому и тон повествования элегически спокойный, даже чуточку отстраненный, тем более что оценку событиям, пусть косвенную, читатель получил уже в предисловии, где дочь героя весьма иронична – и, надо полагать, абсолютно в тон отцу – по отношению к его бурной жизни тогда.
Вместе с тем стоит согласиться с исследователями, полагающими, что писатель пытается ухватить непосредственность возникновения воспоминаний человека о своем жизненном опыте [ Hardy , 1972, р. 69; Stange , 1962, р. X]. Этот временной «фильтр» (а по Б. Харди – и пространственный: герой-рассказчик вспоминает о событиях в Англии, находясь в Америке) объясняет отсутствие очевидного повествовательного драматизма: он перемещен явно вовнутрь и несколько приглушен как уже отболевшее (любовь героя к Беатрисе или разочарование в политике, которой он искренне служил).
По глубине характерологии и тонкости психологизма Теккерей, безусловно, превосходит Скотта и даже Диккенса с его напряженным, контрастным психологизмом в «Повести о двух городах» (1859). Прежде всего потому, что мерой исторического видения и исторической точности у Теккерея является социально-психологический тип героя-повествователя, главного и чуть ли не единственного, кто воспроизводит пережитое и прочувствованное историческое прошлое. Важно, что сюжетно Эсмонд помещен в центр основной схватки времени – конфликта между сторонниками Стюартов и ганноверцами, а его эволюция от якобитства (так называли в Англии XVII–XVIII вв. сторонников изгнанного в результате «Славной революции» 1688 г. Якова II) к умеренному вигизму по сути дела в миниатюре являет собой социально-политическое развитие Англии того времени в целом и динамику исторических взглядов большинства англичан XIX в.
Современный Теккерею критик увидел движение характера Эсмонда в том, что «весьма величественный тип роялиста мягко превращается в человека восемнадцатого века» [ Colby , 1979, р. 326]. Такое превращение, совпадающее с постепенным смягчением характера, составляет суть процесса морально-нравственного, а значит, по Теккерею, исторического развития английского общества. В этом смысле Теккерей явно перекликается с другим английским романистом середины XIX в. – Э. Бульвером Литтоном, автором исторических романов «Последние дни Помпеев» (1834), «Риенци» (1835), «Последние из баронов» (1843), «Гарольд» (1848). Оба делают акцент на характерах и тем самым обнаруживают «предпочтение интереса к человеку перед интересом собственно к истории» [Ibid., p. 330], по сути дела фабульно, лишь время от времени, позволяя истории «вторгаться в жизнь своих вымышленных характеров» [Ibid.]. Не случайно по отношению к историческому роману Теккерея употребляются термины «художественно-исторические мемуары» [Ibid., p. 331], «художественная история» [ Lascelles , 1980, р. 119].
Подобный историзм объясняется и своеобразной жанровой структурой романа «История Генри Эсмонда», который представляет собой синтез исторического романа и романа воспитания: частный сюжет и сюжет социально-политический в «Генри Эсмонде» не существуют вне друг друга: историческое, которое реализовано как политическое, существует в частных поступках персонажей и через них. Отметим точность выбора Теккереем жанра романа воспитания, который как нельзя лучше отвечал его принципам воспроизведения эпохи. Поскольку роман воспитания – повествование о моральных, нравственных, социальных поисках героем смысла жизни и обретении им своей позиции, внутренней и внешней стабильности, осмысление Теккереем эпохи королевы Анны как начала («детства») современности и изображение жизненного пути героя, его взросления как начала и финала этого процесса точно соответствовало структуре жанра и полностью укладывалось в авторское прочтение своего, викторианского, времени в его причинно-следственной связи с эпохой, реконструируемой в романе.
Как и положено в романе воспитания, Генри Эсмонд буквально «терзаем» фортуной и ее неожиданными поворотами; однако всякий раз он благодаря своей природной нравственной стойкости не падает духом и побеждает обстоятельства, но при этом в отличие от героев диккенсовских романов воспитания (например, Пипа из «Больших надежд», 1861) герой Теккерея не претерпевает разительного духовного изменения, поскольку изначально более стабилен. Его эволюция более социальная и политическая.
Говоря о синтезе историко-политического и психологического как наиболее характерной черте сюжетостроения, отметим, что Теккерей идет вслед за В. Скоттом, у которого, особенно в поздний период творчества, исторический роман являлся одновременно и политическим, так как, стремясь воспроизвести ту или иную эпоху в развитии, писатель обращался к политике как непосредственному динамическому проявлению исторического процесса. Сюжетно Теккерей подчиняет воспроизведение эпохи повествованию о политической позиции, заблуждениях и ошибках главного героя, т. е. избран личностный масштаб истории. При этом, как уже говорилось, политические позиции зрелого героя-рассказчика и его же в юности не совпадают, что существенным образом психологизирует и интимизирует отношение к происходящему не только повествующего, но и читателя, придает всей ситуации большой драматизм и убедительность. «В Англии, – читаем мы в романе, – есть только две партии, между которыми можно выбирать; и, выбрав дом для жилья, вы должны взять его таким, как он есть» [ Теккерей , 1977, с. 404]. Например, Эсмонд, вспоминая о политической ситуации и спорах кануна вступления на престол Ганноверской династии (1714) и, как положено в этом интимизированном повествовании о прошлом, растворяя политическое противостояние и самую историю в личностных проблемах, говорит о том, что из-за политических разногласий он разошелся с Аддисоном, но «сейчас, в зрелых годах, вспоминая и рассказывая обо всем этом», он пришел «к заключению, что взгляды мистера Аддисона были правильными, и, начни я жизнь сызнова, я стал бы в ряды вигов, а не тори» [Там же, с. 403]. И далее рассказчик делает очень важное замечание: «…так уж повелось в политике, что выбор стороны скорее зависит от личных связей, нежели от убеждений» [Там же]. Мысль о том, что «кем-нибудь оказанная услуга или нанесенная обида заставляет человека встать под то или иное знамя» [Там же], абсолютно согласуется с идеей, объясняющей всю историко-политическую концепцию Теккерея, когда-то высказанную им в статье об Э. Скрибе и его пьесе «Стакан воды»: «В этой жизни предлоги и условия – обыденные обстоятельства, а не какие-то глобальные основания» [ Colby , 1979, р. 336].
Действительно, Теккерей предпочитает показывать «политика дома», о чем свидетельствует публицистическая политико-историческая скороговорка писателя в рассказе о Сент-Джоне Болин-броке, например, или герцогине Саре Мальборо, королеве Анне, принце Якове. Теккерей более подробно останавливается на деталях интимно-психологического плана, позволяющих яснее очертить оживленные человеческим присутствием приметы эпохи, не утяжеляя повествование развернутыми этнографическими зарисовками и деталями костюмов и интерьеров. Писатель прежде всего пытается прочитать мысли и чувства людей той эпохи. Не случайно он использует некоторые лексические и стилевые особенности английского языка того периода, хотя повествование ни в коей мере не является полной стилизацией языка XVIII в. (К сожалению, в переводе эта специфика не передана в полной мере.) Скорее, это, по меткому определению исследователя, «эхо-каденция, улавливающее атмосферу, дух эпохи» [ Stange , 1962, р. XIII].
Очевидно также, что Теккерей даже «политика дома» изображает нелицеприятно, формально следуя традиции английской литературы XVII–XVIII вв. быть сатиричным по отношению к политике и политикам. Но спектр его сатиры гораздо шире – от некоторого подтрунивания над патером Холтом до гневной инвективы по адресу казнокрада и лицемера герцога Мальборо, политического противника Болинброка. Конечно же, насыщенность или разреженность такого спектра, наличие в нем тех или иных оттенков связаны с динамичной, меняющейся позицией рассказчика – Генри Эсмонда, в пределах жизненного опыта которого мы постоянно находимся. Эмоциональная насыщенность повествования, личностный подход как раз и способствуют правдоподобной передаче эпохи. Но писатель не просто соединяет два плана (пласта) – частный и исторический, а делает так, что кульминация историко-политическая оказывается усилена кульминацией любовнопсихологической. Важно, что и то и другое связано с отказом героя от прежних воззрений и позиций, с крахом его былых надежд и планов, что становится финальной точкой его эволюции на данном, реконструируемом памятью, этапе жизни и точкой отсчета новой жизни героя, о которой читатели уже знают из предисловия дочери к рукописи отца и из ремарок, не щедро рассыпанных по тексту мемуаров и показывающих, насколько изменился герой.
Кульминации жанровых структур воспитательного романа и исторического повествования совпадают, одновременно становясь развязками обеих сюжетных линий. При этом у Эсмонда, да и у читателя тоже, сохраняется ощущение какой-то абсурдности всего, что происходит (имеется в виду финальный эпизод с Яковом Стюартом). На этом, к примеру, построена сцена встречи королевы Анны с претендентом, воспроизведенная в романе как рассказ Беатрисы. То же самое можно сказать и обо всех сценах тайного пребывания принца Якова в доме Каслвудов-Эсмондов. Повествование начиная с главы VIII книги III отлично от предыдущего не только убыстренным темпом событий и их изложения. Здесь Теккерей несколько отходит от «мерного ритма сюжета» [ Вахрушев , 1984, с. 95] мемуарного типа, сообщавшего роману особую эпичность. В этой части романа гораздо больше драматизма, напряженности – внешней, событийной, а также внутренней, психологической. Очевидно, что у повествователя, рассказывающего об этих двух своих великих разочарованиях, вновь болит душа.
Тем контрастнее финал произведения: герой успокаивается, обретая внутреннюю и внешнюю стабильность. И это происходит именно тогда, когда он уходит из политики, отказывается от затянувшейся «болезни» любви к недостойной его женщине, когда мир открывается ему в истинном свете – лишенным масок, декораций, условностей разного рода. Права Б. Харди, которая пишет о том, что двойная кульминация романа «влечет за собой срывание социальных масок, смену ролей и соответствующие психологические открытия» [ Hardy , 1972, р. 46]. Принципиально важной является эта двойная кульминация, которая демонстрирует стремление Теккерея не ограничиваться в воспроизведении реальности лишь одним ее аспектом. Действительность всегда воспринималась писателем как некий многосторонний процесс, смело и органично синтезирующий все многообразие жизни. Специфика многоаспектного художественного мировоспроизведения в этом романе заключается в том, что интегрирующей художественной силой является память, воспоминание достаточно обычного человека. Обратимся вновь к авторитету Б. Харди, которая справедливо считает, что в «Генри Эсмонде» Теккерей реализует «сложное отношение к прошедшему времени и минувшим страстям» [Ibid., p. 69].
Для понимания специфики творчества Теккерея 1850-х гг. необходимо обратить внимание на сочетание комплексности и обыденности (ординарности); оно в известной степени снимает рез- кость сатиры, делает ее более психологизированной, а также правдоподобной. Но правдоподобие основывается не на буквальном следовании факту, а на попытке соразмерить чувства и эмоции героя, человека тех лет, с чувствами и эмоциями читателя, тоже обычного человека. Поэтому и сатира соразмерна, а не нарочито заострена и язвительна. Теккерей как бы приближает своих героев к читателям, оставаясь особенно внимательным к внутреннему миру своих персонажей, а главным образом – к «проблеме становления их личности» [Wheeler, 1985, р. 84]. Связано это с тем, что Теккерей в 1850-х гг. находится в поисках идеалов, которые могут помочь каждому найти смысл существования даже в условиях, которые трудно назвать благоприятными для думающего, честного, благородного человека. Это вовсе не означает, что писатель перестает живописать – и достаточно резко – снобизм, лицемерие, социальный эгоизм, несправедливость. Как раз наоборот, в романах 50-х гг. Теккерей рисует героя, который вступает в осознанный конфликт с действительностью, утрачивая иллюзии. И Генри Эсмонд – один из таких героев, как Артур Пенденнис и Клайв Ньюком, но его образ решен на историке-политическом материале.
Образы Эсмонда и других персонажей даны в динамике, и определяющую роль в их развитии играют внешние события и обстоятельства. Вот почему они в основном диалектичны как характеры, живы, непосредственны, будь то Генри, Беатриса, Рэйчел Каслвуд или, казалось бы, не самые главные герои – лорд Мохен, принц Яков, патер Холт или Том Тэшер. И речь идет не только о балансе положительного и отрицательного, хотя это очень важно и делает образы весьма живыми. В. В. Ивашева, например, обращает внимание на этот баланс в структуре образа леди Каслвуд [ Ивашева , 1974, с. 253–254], да и сам писатель удивлялся тому, как «борются и все же уживаются в одной душе добро и зло, благородство и низость» [ Вахрушев , 1984, с. 122].
Речь идет о том, что у Теккерея ни одно изменение и движение в характере героя не может быть понято изолированно – ни социальное, ни политическое, что особенно подчеркивается избранной манерой повествования – одновременно интроспективной и ретроспективной. Этому способствует и жанровая двойная структура – синтез исторического и воспитательного романов. Безусловно, Теккерей в «Генри Эсмонде» достигает особой, столь важной для него и его художественных поисков, вершины в «процессе освоения характера в его жизнеподобных формах» [Там же, с. 130]. Это происходит главным образом за счет психологической динамичности воспроизводимого характера, особенно усилившейся и составившей специфику творчества писателя в 1850-е гг.
Итак, мы видим, что Теккерей, безусловно, тщателен и внимателен в воспроизведении примет рубежа XVII и XVIII столетий. Однако это не приметы артефактного свойства – костюмов, предметов домашнего обихода, воинской амуниции, ландшафтных деталей, а если они и есть, то в отличие от Скотта Теккерей их не «каталогизирует» и не сосредоточивает свое – и читательское – внимание на них. Они для него не важны. Ему гораздо более интересны приметы моральнопсихологического толка, равно как и политико-нравственного и мировоззренческого уровней. У Теккерея не вещи и предметы составляют суть эпохи, а человек в своих поисках, потерях и обретениях. Причем эти поиски и находки совпадают с общим вектором исторического времени в его человеческом измерении. Поэтому роман «История Генри Эсмонда» любопытен историку-профессионалу не только с точки зрения оригинальности прочтения Теккереем последствий «Славной революции», событий войны за испаснкое наследство, смены династии Стюартов Ганноверской династией в Британии, политической борьбы вигов и тори. Хотя, нет сомнений, и такой интерес вполне удовлетворен писателем, пусть и не без фантазий и вымыслов, что, по мнению историка-пуриста, снижает степень доверия к воспроизведенной в романе картине прошлого. С другой стороны, роман – это художественное произведение, в котором писатель в словесных образах воплощает свое понимание прошлого, которое во многом инспирировано развитием исторического знания в то время, когда жил писатель. И роман Теккерея «История Генри Эсмонда» демонстрирует, насколько глубоко и основательно вошла в сознание викторианского человека вигская интерпретация истории, особенно всего того, что связано со «Славной революцией» и Ганноверской династией. В этом смысле роман становится историческим документом своей эпохи. При этом художественные достижения У. М. Теккерея ни в коей степени не умаляются, а роман «История Генри Эсмонда» неизменно остается одной из вершин его творчества.
Список литературы Может ли историк доверять романисту: об историческом романе У. М. Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра»
- Авраменко Е. И. Образ эпохи в «Истории Генри Эсмонда» и «Четырех Георгах»: жанрово-стилевые взаимодействия в романе и очерке Теккерея//Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX -XX вв. Пермь, 1992.
- Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.
- Вахрушев В. С. Творчество Теккерея. Саратов, 1984.
- Затонский Д. В. Искусство романа и XX век. М., 1973.
- Ивашева В. В. Английский реалистический роман XIX века в его современном звучании. М., 1974.
- История всемирной литературы: в 9 т. М., 1990. Т. 7.
- Маркс К. Английская буржуазия//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1958. Т. 10.
- Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. История зарубежной литературы XIX века: Западноевропейская реалистическая проза: учеб. пос. М., 1998 (2-е изд. 2004; 3-е изд. 2006; 4-е изд., испр.и доп. 2008).
- Свифт Гр. Водоземье/пер. с англ. В. Михайлина. Оксфорд; Н. Новгород, 1999.
- Теккерей У. М. История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника службы ее величества королевы Анны, написанная им самим//Теккерей У. М. Собр. соч.: в 12 т. М., 1977. Т. 7.
- Теккерей У. М. История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего врага//Теккерей У. М. Собр. соч.: в 12 т. М., 1976. Т. 6.
- Хализев В. Е. Теория литературы. 2-е изд. М., 2000.
- Чернышевский Н. Г. «Ньюкомы»: Роман Теккерея//Полн. собр. соч.: в 15 т. М., 1948. Т. 4.
- Colby R. A. Thackeray's Canvass of Humanity: An Author and His Public. Columbus: Ohio University Press, 1979.
- Hardy В. Tellers and Listeners: The Narrative Imagination. London: Antlone, 1975.
- Hardy В. The Exposure of Luxury: Political Themes in Thackeray. London: Owen, 1972.
- Lascelles M. Story-Teller Retrives the Past: Historical and Fictitious History in the Art of Scott, Stevenson, Kipling and some others. London; Oxford: Oxford University Press, 1980.
- Stange R. Introduction//Thackeray W. M. The History of Henry Esmond, esq. New York; London: Ithaca, 1962.
- Wheeler M. English Fiction of the Victorian Period: 1830-1890. London: Longman, 1985.