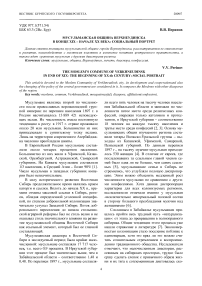Мусульманская община Верхнеудинска в конце XIX - начале XX века: социальный портрет
Автор: Перинов Владимир Викторович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена мусульманской общине города Верхнеудинскa, рассматривается ее становление и развитие, взаимодействие с местными властями и изменение политики центрального правительства, а также идет сравнение мусульман с другими диаспорами региона.
Мусульмане, община, верхнеудинск, мечеть, диаспора, конфесссия
Короткий адрес: https://sciup.org/148179005
IDR: 148179005 | УДК: 977.1(571.54)
Текст научной статьи Мусульманская община Верхнеудинска в конце XIX - начале XX века: социальный портрет
Мусульмане являлись второй по численности после православных вероисповедной группой империи: по переписи населения 1897 г. в России насчитывалось 13 889 421 исповедующих ислам. Их численность имела постоянную тенденцию к росту: в 1917 г. стране проживало около 20 млн мусульман. Большинство из них принадлежало к суннитскому толку ислама. Лишь на территории современного Азербайджана численно преобладали шииты.
В Европейской России мусульмане составляли около четырех процентов населения. Большинство из них жили в Уфимской, Казанской, Оренбургской, Астраханской, Самарской губерниях. На Кавказе мусульмане составляли 1/3 населения, в Средней Азии – более 90% [1]. Число мусульман в западных губерниях империи было незначительным.
В силу исторического развития Восточная Сибирь продолжительное время являлась краем каторги и ссылки. Вплоть до начала ХХ в., времени отмены массовой ссылки в Сибирь, регион, обладая определенной уголовной спецификой, по степени добровольной колонизации значительно уступал Западной Сибири. Поток добровольного переселения до начала столыпинской аграрной реформы был не столь велик и не оказывал столь значительного влияния на развитие мусульманской общины Восточной Сибири как ссыльный элемент, который был ее главной составляющей.
Мусульманская диаспора в Восточной Сибири в исследуемый период была крайне малочисленной: мусульмане составляли 17 717 человек, т.е. всего 0,9 процента. В Иркутской губернии этот процент был значительно выше, чем в Забайкальской области – соответственно 1,48 и 0,48. По переписи 1897 г., мусульмане составля- ли всего пять человек на тысячу человек населения Забайкальской области и занимали по численности пятое место среди религиозных конфессий, опережая только католиков и протестантов, в Иркутской губернии – соответственно 18 человек на каждую тысячу населения и третье место среди конфессий [2, 3]. Основу мусульманских общин изучаемого региона составили татары Волжско-Уральской группы – выходцы из Казанской, Уфимской, Самарской, Пензенской губерний. По данным переписи 1897 г., на тысячу мужчин-мусульман приходилось 530 женщин [4]. В отличие от евреев, где последовавших за ссыльным главой членов семей было едва ли не больше, чем самих ссыльных [5], мусульманские семьи в Сибирь не стремились, что углубляло половую диспропорцию. Этим можно объяснить медленный рост численности мусульман по сравнению с другими конфессиями. Хотя данная диспропорция характерна для всех колонизуемых регионов, исследователи отмечали именно у мусульман «исключительно ненормальный половой состав в сторону большого преобладания мужчин над женщинами» [6].
Сосланным в Забайкалье мусульманам пришлось пройти весь трудный путь «натурализации»: от этапа до превращения в полноправного сибиряка. Общие тенденции этого процесса уже нашли отражение в литературе [7]. Закономерностью колонизации стало поселение поближе к единоверцам, хотя это вряд ли это можно считать сознательным стремлением к воспроизведению традиционного общества. Исследователи отмечают, что малочисленным диаспорам, рассеянным на сибирских просторах, трудно было сразу сделать слепок с привычного образа жизни и их тяга к соплеменникам диктовалась ско- рее причинами более прозаическими: у них проще было на первых порах получить кров или денежную помощь, пока ссыльный не обзаведется собственным хозяйством [8]. Постоянная борьба за выживание сформировала иной человеческий тип по сравнению с западными губерниями империи: людей предприимчивых, умеющих рисковать, коммуникабельных, но с относительно низким уровнем духовной культуры и религиозности. Интеграцию мусульман (как, впрочем, и других диаспор) в сибирское общество облегчали два фактора. Во-первых, разнородность последнего и его «привычка» к евреям, мусульманам, лютеранам и католикам, выработавшая известную веротерпимость [9]. Во-вторых, отношение к ссыльным со стороны местной администрации, которая рассматривала их, прежде всего, не как «штрафной элемент», а как колонизационный ресурс, с помощью которого осваивались необжитые территории [10]. Однако в процессе социализации у мусульман появлялись серьезные трудности, как-то: низкий уровень светского образования и плохое знание русского языка, а впоследствии – обусловленное этим невысокое имущественное положение. И если поляки, даже при известной доле недоверия местных чиновников к ссыльным, по своему происхождению и высокому уровню образования могли рассчитывать на престижные долж- ности в регионе [11], то для мусульман такой возможности не было.
Традиционно основным занятием мусульманской общины России служила торговопредпринимательская деятельность. По переписи 1897 г., в России числилось около 7 тыс. купцов-мусульман (с семьями), причем в расчет брались лишь приписанные к гильдиям. В действительности число мусульман, занимавшихся торговлей и предпринимательством, было гораздо большим. В эти сферы деятельности были активно вовлечены мещане (по переписи, около 300 тыс. чел.) и представители других слоев мусульманства России. Предпринимательская деятельность большинства мусульман не выходила за пределы мелкотоварного оборота и приносила достаточно скромный доход, хотя встречались и обладатели крупных капиталов. Выделялась посредническая деятельность российских купцов-мусульман в торговле со странами Средней Азии [12].
Совсем иная картина складывалась в Забайкалье. К концу XIX в. в области насчитывалось 3182 мусульманина [13]. Поскольку большую их часть составляли ссыльные и вышедшие на поселение каторжане, их селили преимущественно в сельской местности: местные власти опасались концентрации бывшего «преступного элемента» в городах. Это и определило род их занятий (табл. 1).
Основные занятия мусульманского населения Забайкальской области, по данным переписи 1897 г.* [14]:
Таблица 1
|
Деятельность и служба частная, прислуга и т. п. |
Лишенные свободы |
Земледелие |
Добыча руд и копи |
Ремонт, жилищное строительство и т. п. |
|
|
Самостоятельные |
205 |
287 |
288 |
271 |
272 |
|
Члены семей |
64 |
10 |
521 |
165 |
146 |
• в таблице не указаны сферы деятельности, в которых было занято меньше 50 человек
Как видно из таблицы, наиболее многочисленная группа представителей мусульманской диаспоры – около 25, 4 процента от общей численности мусульманского населения области, так называемые оседлые татары, жившие среди русского населения, кормилась в основном за счет сельскохозяйственного труда. Судя по числу членов их семей, к этому времени они жили здесь уже достаточно давно и имели твердый источник дохода. Часть из них совмещала занятия земледелием с работой на золотых приисках, торговлей и другими видами деятельности. Вторую позицию – 13,7 процента – занимали заня- тые в добывающей промышленности. В конце ХIХ в. в Западном Забайкалье крупная золотопромышленность уступила место мелкому зо-лотничному способу добычи, и в тайгу хлынул поток старателей, работавших в одиночку и получавших плату с каждого добытого золотника. В числе старателей были и мусульмане. Золот-ничный способ работы не сулил высоких заработков, т.к. производительность на уже истощенных приисках была низкой.
Кроме того, мусульмане занимались строительством и ремонтом зданий для последующей продажи. В качестве подтверждения можно привести следующий документ: «10 ноября 1905 г. крестьянин Верхнеудинского уезда Куйтун-ской волости и селения Сафар – Байрам – Али – Оглы взял во временное содержание на 40 лет участок земли в Нагорной части города в квартале № 14 по Голдобинской улице (второй от угла Селенгинской и Голдобинской улиц) размером в 200 квадратных сажен (10 сажен по ул. Голдобинской и 20 сажен вглубь) для усадебных построек, и обязался вносить плату в размере 67 р. 60 к. Плата вносится на полгода вперед 15 января и 15 июля (неустойка за просрочку – 25 рублей)» [15]. Значительное число мусульман, не приспособленных к занятиям земледелием, было в услужении или работало приказчиками [16]. Как видим, большинство из них занималось тяжелым, не престижным трудом.
Несмотря на ограниченную возможность поселения в городах, тенденция проникновения туда мусульман очевидна. Например, в Верхне-удинске в 1887 г. жили лишь 35 человек, исповедующих ислам [17]. По данным переписи 1897 г., из проживавших в Верхнеудинском округе 409 мусульман 107 жили в Верхнеудинске [18]. По данным однодневной переписи 7 октября 1907 г., в городе жили уже 343 мусульманина [19]. Таким образом, численность мусульманской общины города за 20 лет увеличилась почти в десять раз.
В начале ХХ в. диспропорция между городским и сельским населением была уже не такой явной. Если в 1896 г. соотношение горожан и сельских обывателей составляло 5,2: 94,8 проц., то к 1911 году – уже 46: 54, то есть разрыв составлял всего 8 процентов [20].
Несмотря на довольно быстрый рост мусульманской общины в городе, процент мусульман по сравнению с другими диаспорами был низким: в 1897 году они составляли всего 1,33 процента от всего населения города, опережая лишь католиков и протестантов [21].
Проведенная в 1907 г. в Верхнеудинске однодневная перепись населения зафиксировала не только конфессиональный, но и этнический состав жителей, что дало возможность структурировать мусульманскую диаспору по национальностям. Мусульманская община была представлена всего двумя национальностями: татарами и черкесами. В метрических книгах Верхнеудинской татарской мечети значатся башкиры, но, очевидно, это были сельские жители, приезжавшие в город отправлять религиозные обряды [22].
В Верхнеудинске мусульмане старались селиться компактно: на Нижней Березовке жили 58 человек (все татары), в Нагорной части горо- да – 172 человека (из них 161 татарин), в Центральной части – 111 (из них 99 татар). Два татарина жили в Заудинском предместье. В Посе-лье и на Батарейной площади мусульмане не селились. Согласно отчетам 3-го участка ремонта путей сообщения Забайкальской железной дороги, на подведомственной ей территории в городе Верхнеудинске жили 67 татар (из коих 42 мужчины) и 3 черкеса [23]. Компактное проживание способствовало сохранению религиозной идентичности.
По роду занятий мусульман Верхнеудинск несколько выбивался из общей картины Забайкальской области, больше копируя общероссийскую статистику. В метрических книгах Верхнеудинской татарской мечети многие указывали торговлю как род своих занятий. Это была, как правило, мелочная разносная торговля, не приносившая значительного дохода. В лавках Малого Гостиного Двора торговлю вели всего три мусульманина: Хайретдинов, Фаткуллин и Ку-рунгулов. Но только один из них, Камедулла Фаткулин, числился купцом II гильдии по городу Верхнеудинску [24].
В 1907 г. мусульманская община Верхне-удинска добилась разрешения на строительство мечети, хотя по закону для этого требовалось наличие не менее 200 самостоятельных домовладельцев, глав семей. Но по отношению к мусульманам, находящимся в ведении Оренбургского Магометанского Духовного Управления [25], в связи с малочисленностью их в Сибири допускались послабления. Архивные документы зафиксировали договор общины и городской думы на отвод участка под строительство. «Четвертого мая 1907 г. доверенный магометанского общества города Верхнеудинска Саид Баттал Аминов заключил контракт с Верхнеудинской Городской Управой (Что, согласно постановлению Верхнеудинской Городской Думы от 17 мая 1905 г. за № 80, магометанское общество города взяло в бессрочную и бесплатную аренду участок земли в квартале № 128 под строительство мечети на углу Новопроезжей и Титовской улиц размером в 250 квадратных саженей)» [26].
В целом разрешение на данное строительство шло в фарватере общероссийской политики уступок и расширения пределов веротерпимости, которую правящие верхи стали проводить под влиянием усиления общественного движения в стране в первые годы ХХ века. Манифестом 26 февраля 1903 г. и Указом 12 декабря 1904 г., обнародованными накануне и в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг., определялись конкретные меры в этом направлении. Уже в ходе начавшейся первой русской револю- ции Указом о веротерпимости 17 апреля 1905 г. был сделан и обещан в дальнейшем ряд серьезных уступок неправославным народам, особенно мусульманским подданным империи [27]. Политика уступок со стороны имперской власти, наложившись на колонизационную политику местной администрации по встраиванию немногочисленного мусульманского населения в региональное общество, позволила ему сохранить все идентификационные характеристики.
Столь позднее по сравнению с другими диаспорами начало полноценной духовной жизни забайкальских мусульман объясняется, по-видимому, их малой численностью. К тому же забайкальские мусульмане, имея низкий уровень образования, на первых порах не могли выдвинуть грамотного ходатая. Как правило, численно укрепившаяся диаспора, обнаружившая тягу к духовной жизни, получала в регионе разрешение на открытие молитвенного учреждения и открытого соблюдения религиозных обрядов задолго до 1905 г. В 1831 г., после массовой ссылки участников польского восстания в Нерчинск, там открылся римско-католический приход [28]. Синагоги в Верхнеудинске и в Петровском Заводе Верхнеудинского уезда были открыты в 1882 г., по мере роста процента еврейского населения в регионе [29].
Начавшееся в 1907 г. строительство мечети было закончено в 1912 г. [30]. Выборы муллы, согласно законодательству, проходили в присутствии волостных (Юртовых) старшин и сельских старост. В выборах не участвовали младшие члены семей, т. е. не отделенные от отцов сыновья, младшие братья, племянники и т. п. Мулла считался избранным, если набирал две трети голосов выборщиков. Протокол выборов должен быть подписан всеми участникими выборов и засвидетельствован старшинами. Дальнейшее утверждение проходило в уездном полицейском управлении и губернском правлении [31]. Первым муллой Верхнеудинской татарской мечети был избран Гарифулла Хайруллин [32]. Со строительством мечети мусульманская община города обрела не только конфессиональную «полноценность». Исследователи отмечают, что мечеть являлась центром социальной жизни татарских общин в регионе [33].
Таким образом, к началу XX в. мусульманская община города Верхнеудинска закончила этап формирования и получила возможность дальнейшего развития. Будучи немногочисленной, она тем не менее составляла заметную прослойку в городском обществе, была способна обеспечить свои нужды и играла определенную роль в формировании социокультурного лица города.