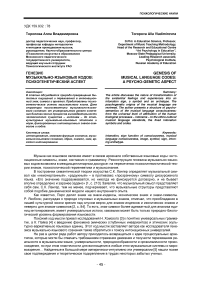Музыкально-языковых кодов: психогенетический аспект
Автор: Торопова Алла Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Психологические науки
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается природа превращения бытийных ощущений и переживаний в интонационный знак, символ и архетип. Представлены психогенетические истоки музыкального языка. Дана структура психосемантики музыкально-языкового сознания: от универсального уровня означения биологических процессов жизнедеятельности человеческого существа - интонем - до этнокультурных музыкально-языковых эталонов и норм, фиксированных интонационных знаков-символов и кодов.
Интонирование, знаковая функция сознания, музыкально-языковое сознание, образ, символ, знак, архетип интонирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14936783
IDR: 14936783 | УДК: 159.932:
Текст научной статьи Музыкально-языковых кодов: психогенетический аспект
Музыка как языковое явление имеет в своем арсенале собственные языковые коды: интонационные символы, знаки, синтаксис и грамматику. Реконструкция генезиса музыкально-языковых кодов возможна в междисциплинарном дискурсе: на пересечении психолингвистической теории знаков, психологической герменевтики и музыкознания.
В построении семантической теории искусства С.К. Лангер определяет музыкальный символ как «неисчерпанный», «радужный» – в противовес «прозрачному» символу дискурсивного языка. «Его значение подразумевается, но никогда не фиксируется договорно, и не бывает вполне определено и заранее задано» [1, с. 210]. Заявляя, что музыкальный смысл представляет себя сам, С.К. Лангер, тем не менее, подчеркивает, что музыкальные структуры представляют собой подобие динамической модели нашего внутреннего опыта.
Как известно, Пирс делил знаки на знаки-индексы, иконические знаки и знаки-символы. Р. Якобсон, рассуждая о природе слуховых и музыкальных знаков, отмечал, что преобладание в нашей культурной жизни зрения над слухом верно для знаков-индексов и иконических знаков и неверно для знаков-символов [2, c. 84]. То есть, знак-символ более адекватный для анализа единиц интонирования, имеет универсальные истоки, каковыми может быть только природно-биологический уровень формирования языковости.
Похожий ход мысли привел исследования Н. Хомского [3] к понятию универсальных грамматик, а К. Пайка [4] к введению феномена эмических (глубинных инвариантов) и этических (культурно-вариативных) языковых единиц. Этот ход мысли заставляет автора как исследователя генезиса музыкально-языкового сознания также обратиться к поиску интонационных универсалий.
Не раз в целом ряде работ автору приходилось возвращаться к идее процессуальных архетипов, которые могли бы отвечать требованиям отражения движения и текучести переживания реальности в музыкальном языке, универсальности, природосообразности и организмичности происхождения, но при этом пластичности для воплощения в любые этно-музыкальные системы и мировоззрения… Найденные в большой мере эмпирически-интуитивно эти универсалии [5] нашли позже свое подтверждение и теоретическое подкрепление в трудах некоторых забытых ученых.
В архиве Психологического института РАО хранится статья интереснейшего ученого – С.Н. Беляевой-Экземплярской, в которой она, размышляя о музыкальной герменевтике, выходит на содержательные признаки интонационной формы музыки [6]. Долгое время смысловой единицей музыкального интонирования считался аффект, а вернее, теория аффектов. Но благодаря чему в музыкально-интонированном знаке считывается аффект? Беляева-Экземплярская предлагает считать базовым музыкальным содержанием не аффекты вообще, а их психофизиологическую подоснову – напряжение. «Аффективные содержания не непосредственно даны в музыке, а путем напряжения и разрешения. Само музыкальное понимание достигается лишь правильным, в нужный момент осуществленным переживанием напряжения» [7].
По мнению автора, этот признак является базовым, на нем строится вся дальнейшая картина смыслопорождающих кодов интонированного образа и его восприятия. Можно сказать, что музыкальная ткань может отражать и создавать внеязыковой смысл только через интонирование процессов большего или меньшего напряжения.
«Понятие о напряжении, – пишет С.Н. Беляева-Экземплярская, – далекое от реальных эмоционально-двигательных явлений, мы находим в феноменологическом анализе Мерсмана. К такому понятию проводит разъяснение «тектонических сил». Последнее наименование дается сумме сил, которые составляют основу эволюции элементов и ведут их к образованию формы и содержания. Единственное содержание музыки, к которому непреложно приводят тектонические элементы, есть напряжение и разрешение» [8].
Переживания напряжения-расслабления – это базовые биологические переживания всего «живого», являющиеся предтечей глубинных языковых обозначений для этих переживаний – эмических единиц, претворяющихся в спонтанном интонировании, обусловившем развитие различных языковых форм. Таким образом, эмическими единицами музыкально-языкового сознания являются архетипы интонирования, имеющие биологическое происхождение и связанные с процессуальностью самой жизнедеятельности и психическим временем, которое наполняется и измеряется сменой процессов напряжения и расслабления.
С.Н. Беляева-Экземплярская обращается и к природе музыкального знака. «Есть ли музыка вообще знак и какой именно? <…> В анализе музыкального знака есть тенденция понимать его не как словесное, а как дословесное выражение. При этом противопоставляются две группы знаков – фиксированные и нефиксированные. В первых связь знака с его значением сама по себе непонятна: для нее нет внутренних оснований. <...> Фиксированные знаки не обладают общепонятностью: они доступны только тому, кто знает язык, в состав которого они входят. Нефиксированные знаки стоят скорее в отношении внутренней зависимости от обозначаемого явления, и именно эта связь должна быть пережита, чтобы возникло понимание. <…> У музыкального знака “абстрактно-реальное психическое содержание”» [9].
Проблему первичных и вторичных знаков Э. Сепир кратко сформулировал следующим образом: «Звуковой язык предшествует всем другим символическим системам коммуникации, которые являются либо его заместителями, как письменность, либо дополнениями к нему, как сопровождающие речь жесты» [10].
Интересно, что в статье С.Н. Беляевой-Экземплярской встречается рассуждение о фиксированных знаках специфически музыкального характера. Она называет их «музыкальными метафорами», которые могли выйти из употребления, и «никому уже не понятны сами по себе формулы вздоха, распятия и т.д.» [11, с. 137].
Музыковед В.В. Медушевский видит ключ к устройству интонационной формы во внезвуко-вой ее организации: «ее строение мотивировано в направлении от смысловой стороны к звуковой и от предощущаемой протоинтонации к реальной интонации, втянувшей в себя аналитические средства» [12, с. 48]. В поиске внутренней языковой структуры музыкальной формы Медушев-ский ввел понятие протоинтонации – то есть того уровня, который, начиная с Н. Хомского, выявляли в естественном языке лингвисты. В интерпретации автора протоинтонация – это обобщенная семантико-звуковая формула произведения. Смысл понятия, данного В.В. Медушевским, по нашему мнению, более всего близок к сущности вводимого нами психологического понятия «архетип интонирования».
Протоинтонация является единицей музыкального восприятия мира; она транслирует неочевидные смыслы подлинной реальности (парафраз К. Леви-Строса [13]), сворачивая их содержание в знаки и символы. Свернутая протоинтонация разворачивается в каждой клеточке музыкального языка, в процессуальной и архитектонической формах, в композиторском, исполнительском, слушательском проживаниях музыкального произведения. Считывание протоинтонацион-ной символизации смыслов может быть объяснено как обеспеченное психическими архетипами, интерпретируемое благодаря индивидуальной развитости тех или иных архетипических комплексов в личности, ее избирательной архетипической перцепции.
Музыкальный символ неоднозначен, что позволяет говорить о многообразии протоинтонаций, воплощающих при этом ограниченное число архетипов интонирования.
Продолжая анализ единиц и кодов музыкально-языковой системы, мы приходим к необходимости построения уровней психосематики музыкально-языкового сознания. Обычно методы, используемые в психосемантических исследованиях, строятся на индексации вербальных характеристик объекта исследования (Ч. Осгут, Дж. Келли) и построении на этой основе семантических пространств индивидуальных или групповых значений или слов-символов с ассоциативно связанными значениями – семантические поля В. Гумбольдта. В исследовании феномена интонирования ставится задача построения семантических пространств с невербализованными значениями. А также реконструируется логика перехода универсальных (внутренних, по Хомскому) интонационных структур на внешний языковой уровень культурно-определенных значений.
В ходе исследования была смоделирована карта символогенеза психосемантики музыкально-языкового сознания, отражающая общие закономерности «окультуривания» универсальных исходно-биологических и психофизиологических интонационно-языковых структур.
Можно выделить три основных психосематических пласта в генезисе языковых кодов интонирования. Эти пласты имеют между собой обратимую, исторически обоснованную связь.
I пласт – праформы или архетипы интонирования: общечеловеческие энерго-временные паттерны отражения переживаний и отношений, выраженные и закрепленные в универсалиях музыкального языка (эмический слой).
-
II пласт – культурно-конвенциональные языковые стереотипы интонирования переживаний – этнокультурный словарь архетипов интонирования (этический слой) .
-
III пласт – устоявшиеся семиотические формулы , закрепившиеся знаки и мифологемы музыкально-языкового сознания, музыкально-языковые клише.
Все эти значения не вербальны, а маркируются музыкально-языковым сознанием личности лишь уровнем резонирования при восприятии: глубинно-телесным на первом уровне, способностью к прогнозированию дальнейшего развития интонированной мысли – на втором и узнаваемостью «знаков для посвященных» на третьем. Такова, например, внутренняя «знаковая программа» многих произведений И.С. Баха: прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира», «Искусства фуги» и некоторых других [14]. По разработанной А. Швейцером и Б.Л. Яворским системе баховских музыкальных символов (знаков-формул в нашей интерпретации), таких как: «символ креста», «крестной муки», «символ искупления», «постижения воли Господней», символы «жертвенности», «чаши страдания» и других, основанных на бытующих протестантских хоралах с известными всем текстами и интонациями – возможно почти подстрочное вербальное осознание музыкального текста [15, с. 332–333]. Такая культурная определенность знака делает его малодоступным для восприятия людьми иной культурно-исторической реальности, этноса или конфессии. При этом люди мирового интонационного пространства, не владея «ключами» к уровню жестких культурно-обусловленных музыкальных знаков, могут быть способны воспринять и воспринимают глубинный смысл музыки, интерпретировать музыкальный символ, благодаря бессознательному обладанию универсальными кодами к «драме чувств».
Общественное музыкально-языковое сознание через интонационные эталоны постоянно реконструирует этот генезис знаково-символических форм интонирования в культурных практиках, играя этическими единицами, продвигающими музыкальное мышление эпохи вперед (или назад). Эмические коды музыкально-языкового сознания менее изменчивы и связаны с глубинной идентичностью или архетипом этноса, конфессии, социума.
Индивидуальное же музыкально-языковое сознание пристраивается в каждом акте восприятия к способности резонировать и понимать смысл интонированного высказывания. Это резонирование может быть полным – по всем трем уровням психосемантики, или частичным – по одному из них. При непонимании на уровне «знаков для посвященных» (III уровне), сознание обращается к более общим программам: на уровень примерного прогнозирования в рамках знакомого интонационно-стилевого словаря и усвоенных стереотипов музыкального высказывания (II уровень психосемантики) или на уровень спонтанного телесного отклика (I уровень), регистрирующего напряжения и расслабления при психофизиологическом резонансе со звучащей материей.
Ссылки:
-
1. Немировская Е. Новая теория музыки. К критике семантической концепции искусства Сусанны Лангер // Музыкальное искусство и наука. М., 1973. Вып. 2.
-
2. Якобсон Р.О. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Искусствометрия: методы точных наук и семиотики / сост. Ю.М. Лотман; ред. В.М. Петров. М., 2009.
-
3. Chomsky N. Syntactic Structures. Paris, 1957.
-
4. Pike K.L. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. Vol. 32 in Janua Linguarum, Series
Maior. The Hague, 1967.
-
5. Торопова А.В. Временные свойства музыкальных архетипов // Музыка и категория времени: сборник материалов 5-й конференции из цикла «Григорьевских чтений». М., 2003. С. 107–112; Торопова А.В. Смысловое устройство музыкального сознания личности // Мир психологии: научно-методический журнал. 2008. № 2. С. 127–137; Toropova A.V. Archetype of music perception: projective test for musical students training // 2nd International Congress on Neurobiology, Clinical Psychopharmacology & Treatment Guidance. Thessaloniki, 2011. P. 96–97; Торопова А.В. Интонирующая природа психики: монография. М., 2013.
-
6. Беляева-Экземплярская С.Н. Музыкальная герменевтика // Искусство. 1927. Т. 3. Кн. 4. С. 127–138.
-
7. Там же. С.132.
-
8. Там же. С.133.
-
9. Там же. С.137.
-
10. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи // Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibli-otek_Buks/Linguist/sepir/01.php (дата обращения: 04.04.14).
-
11. Беляева-Экземплярская С.Н. Указ. соч.
-
12. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
-
13. Леви-Строс К. Мифологики: сырое и приготовленное. М., 2006.
-
14. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. М., 2011.
-
15. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / послесл. М.С. Друскина. М., 1965.