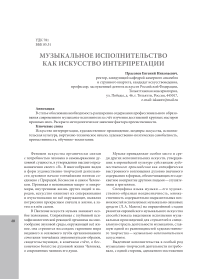Музыкальное исполнительство как искусство интерпретации
Автор: Прасолов Евгений Николаевич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье обоснована необходимость расширения содержания профессионального образования современного музыканта-исполнителя за счёт изучения достижений крупных мастеров прошлых эпох. Раскрыто методологическое значение фактора преемственности.
Искусство интерпретации, художественное произведение, шедевры искусства, исполнительская культура, виртуозно-техническое начало, художественно-поэтическая самобытность, преемственность
Короткий адрес: https://sciup.org/170173859
IDR: 170173859 | УДК: 781
Текст научной статьи Музыкальное исполнительство как искусство интерпретации
Феномен искусства органически связан с потребностью человека в самовыражении духовной сущности, в утверждении высшего предназначения своего «Я». В многообразии видов и форм художественно-творческой деятельности духовное начало тончайшими нитями соединено с Природой, Космосом и самим Человеком. Проникая в непознанные макро- и микромиры, внутреннюю жизнь других людей и народов, искусство оживляет их сопереживания и вчувствования во всё окружающее, выявляя потрясения прекрасным сначала в жизни, а затем и в нём самом.
В Пантеоне искусств музыка занимает особое положение. Сопряжённая с глубинной психофизиологической реакцией организма на многообразие звуковой среды, окружающей всё живое, она стремится воссоздать гармонию мира видимого и осязаемого путём организованного сочетания тончайших звукоимпульсов-образов, свидетельствующих, в конечном счёте, о бесконечном богатстве духовной жизни Человека, о сокровенных чаяниях его души.
Музыке принадлежит особое место и среди других исполнительских искусств, утвердивших в европейской культуре субстанцию художественного произведения как специфически выстроенного воплощения духовно значимого содержания в формах, обеспечивающих его адекватное восприятие другими людьми — слушателями и зрителями.
Специфика языка музыки — его художественно-образная неоднозначность, множественность содержательно-выразительных возможностей используемых музыкально-звуковых средств (Л. А. Мазель) на определённой стадии развития европейского музыкального искусства способствовала выделению исполнения музыкальных произведений для слушателей в специальную отрасль деятельности музыкантов, ставшую одной из разновидностей художественного творчества — музыкально-исполнительским искусством .
Выделение исполнительства в особый род музыкально-творческой деятельности потребовало, с одной стороны, адекватного постижения художественных результатов творчества композитора как автора музыкального произведения, а, с другой, оптимизации направленности процесса его воплощения на слушателя в акте так называемого вторичного — исполнительского — творчества. Притом не сразу обнаружилась интегративная природа последнего, включающая не только существенные элементы остальных видов музыкальной деятельности (сочинения, восприятия), но и некоторые важные черты других искусств, связанные с художественно-эстетическими закономерностями. Лишь в историческом процессе, по мере перехода от эпохи первичного синкрезиса композиторского и исполнительского творчества ко времени их разделения, постепенно выкристаллизовывались важные интегративные свойства последнего.
Так, к концу XIX в., пройдя через длительный период преимущественного внимания к развитию своей инструментально-технической стороны, искусство музыкального исполнения, существуя в немалой мере ещё в двуедином творчестве авторов-исполнителей, постепенно приближалось к новой эпохе выявления главной закономерности собственной деятельности — художественно-творческому истолкованию исполняемой музыки с учётом множества факторов музыкального и внемузыкального — художественно-эстетического, исторического и социально-культурного порядка.
На рубеже XIX–XX столетий в музыкальном исполнительстве определилось интерпре-таторское направление , поставившее в повестку дня ряд новых проблем общехудожественного, эстетического плана1. Развиваясь как явление социально-культурное, завоёвывавшее всё более широкое общественное признание, деятельность художников-интерпретаторов музыкальных произведений испытывала на себе сильное влияние самых различных видов художественного творчества — литературы и поэзии, живописи и архитектуры, особенно театра как искусства, синтетического по своей природе.
Эти воздействия зримо сказывались в становлении отечественной музыкально-исполнительской школы, для которой характерными были многочисленные связи с творчеством крупнейших русских писателей и поэтов, художников и актёров второй половины XIX столетия — золотого века русской художественной культуры.
Важнейшим интегрирующим фактором при этом становилась общая гуманистическая направленность русского искусства и литературы, повлиявшая, в частности, на склонность большинства композиторов к слиянию музыки со словом, цветом и рисунком, пластикой движений, шире говоря — с драматургией поэтических образов. Всё это, прежде всего, отражалось в их преимущественном внимании к сложным, синтетическим музыкальным жанрам — опере, балету, хору, камерно-вокальной лирике. Общеизвестно, сколь богато в этом плане творчество Глинки, Мусоргского и Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, Танеева, Рахманинова, Скрябина.
Благодаря тесному общению в широком пространстве художественной культуры в поле зрения русских композиторов (а, следовательно, и исполнителей) неизменно оказывались те выдающиеся явления национальной культуры, которые составили мировую славу отечественного искусства: русская былина, сказка и исторический эпос, шедевры Пушкина и Гоголя, живописные свершения Васнецова и Репина, скульптуры Антокольского, драматическое искусство Малого и Александринского театров, сценическое творчество их великих мастеров — М. Щепкина, М. Комиссаржевской, А. Ленского и многих других выдающихся актёров.
Всё это не только предопределило высокий уровень отечественного музыкального исполнительства в период своего возмужания в XIX в., но и обусловило огромный взлёт русской исполнительской культуры в дальнейшем — в течение большей части века двадцатого. Её вершинные достижения, обнаруживавшиеся поразительно многопланово и получившие мировое признание, связаны, как известно, с именами пианистов А. Рубинштейна, А. Есиповой, С. Рахманинова, позднее М. Юдиной, В. Софроницкого, Г. Нейгау-за, К. Игумнова и др.; скрипачей Л. Ауэра, его великих воспитанников Я. Хейфеца и М. Полякина, виолончелистов К. Давыдова и В. Вержбиловича, певцов Ф. Шаляпина, А. Неждановой, Л. Собинова, дирижёра С. Кусевицкого и многих других, не менее великих, артистов.
Важно отметить, что их замечательное искусство формировалось, крепло и достигало апогея именно в пору величия русской культуры — когда ещё жил Л. Толстой, симпатии общества завоёвывали художники-передвижники и представители «Мира искусства», когда на сценах столичных и провинциальных театров блистали артистические дарования М. Ермоловой и А. Остужева, а К. Станиславский и В. Немирович-Данченко в своём Художественно-Общедоступном театре закладывали основы новой театральной эстетики, послужившей впоследствии питательной почвой для других видов исполнительского искусства — музыки, вчастности.
В дальнейшем эстафету мастеров, чьё исполнительское творчество непосредственно питалось живительными соками так называемого Серебряного века русского искусства, активно приняло молодое поколение музыкантов-исполнителей, воспитанных уже в первые десятилетия двадцатого века. Утверждавшееся благодаря их достижениям мировое признание российского музыкального исполнительства пришлось, в основном, на предвоенные и послевоенные (конец 30-х — 50-е) годы, когда в художественной жизни России и на мировой концертной эстраде исключительно ярко заявили о себе С. Рихтер и Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Коган, М. Ростропович, С. Самосуд и Е. Мравинский, В. Барсова, И. Козловский, С. Лемешев и многие другие первоклассные исполнители2.
Однако уже в следующем историческом периоде развития отечественного музыкального исполнительства (примерно с 60-х гг.) всё отчётливее стали обнаруживаться признаки негативного характера. С течением времени всё заметнее становился увеличивавшийся разрыв между виртуозно-технической оснащённостью и художественно-поэтической самобытностью молодых концертантов, завоёвывавших, тем не менее, многочисленные лауреатские дипломы на многочисленных музыкальных конкурсах самого разного уровня. Открыто об этом заговорили ещё в самом конце 50-х гг., когда наша музыкальная общественность пыталась сделать определённые практические выводы из итогов 1-го Международного конкурса пианистов и скрипачей имени П. И. Чайковского (1958 г.).3
Исследуя причины такого положения, следует, по нашему мнению, непредвзято оценивать состояние методологии, теории и методики преподавания музыкально-исполнительского искусства. Нетрудно заметить, что наиболее разработанными являются проблемы формирования исполнительского мастерства, притом в его довольно узком, инструментально-техническом понимании, а также некоторые вопросы рациональной организации процесса изучения музыкального произведения, практики аудиторных и домашних занятий, построения репертуара и ряд других.
Но доселе открытыми остаются проблемы, относящиеся к художественно-поэтической стороне исполнительского искусства: выразительность интонирования, выявление стилистических тенденций эпох сочинения и исполнения музыки, стиля автора, а также построение композиционной формы произведения, её направленность на восприятие слушателей. Иными словами, недостаточно разработана именно та проблематика, которая относится к художественносодержательной интерпретации исполняемого музыкального произведения. Притом мало изучены именно краеугольные для неё вопросы объективного и субъективного порядка, творческой реализации идеи, замысла и художественной концепции исполняемого сочинения.
В этом плане в образовании современного музыканта совершенно недостаточно представлен опыт крупных исполнителей-интерпретаторов прошлого, творивших в сравнительно недалёкую от нас эпоху. Например, наследие Альфреда Корто, выдающегося французского пианиста первой половины прошедшего столетия, включает не только записи его интерпретаций шедевров фортепианной музыки, но и ряд теоретико-методических трудов, посвящённых данной проблеме4.
Словом, художественно-творческое отношение к исполняемому должно быть заложено в самом начале обучения, когда начинающий музыкант играет простейшие песенные и танцевальные мелодии, несложные пьесы. Здесь важную методологическую роль выполняет реализация требования преемственности в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя , что обеспечивает фундаментальность последующих стадий его становления.
Список литературы Музыкальное исполнительство как искусство интерпретации
- Алексеев А. Д. Интерпретация музыкальных произведений (на основе анализа искусства выдающихся пианистов XX века). М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984
- Берлянчик М. М. Развитие художественной культуры исполнителя в музыкальном лицее // Музыкальный лицей: задачи, проблемы, перспективы. Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 1989. С. 51-60
- Нейгауз Г. Г. После конкурса // Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. М.: Сов. композитор, 1975. С. 221-224
- Якупова О. П. Шопен Альфреда Корто (аналитический этюд) // Художественное образование и наука. 2015. № 4. С. 100-110