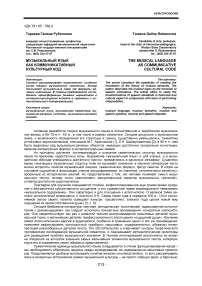Музыкальный язык как коммуникативный культурный код
Автор: Тараева Галина Рубеновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья рассматривает возможность создания основ теории музыкальной семантики. Автор описывает музыкальные знаки как формулы речевых интонаций. В статье предлагается исследовать трансформации речевых нормативов в историко-культурном аспекте в сравнении с исполнительской интерпретацией.
Музыкальный язык, музыкальная семантика, музыкально-речевые системы, музыкально-речевой этикет
Короткий адрес: https://sciup.org/14934104
IDR: 14934104 | УДК: 781.65
Текст научной статьи Музыкальный язык как коммуникативный культурный код
Активная разработка теории музыкального языка в отечественном и зарубежном музыкознании велась в 60-70-е гг. ХХ в., в том числе в рамках семиотики. Сегодня дискуссии о музыкальном знаке, о возможности определения его структуры и границ, существенно уменьшились. Семантику устойчивых звукокомплексов, описывали М.Г. Арановский [1], Л.Н. Шаймухаметова [2]: в 90-е гг. ими были выделены ряд музыкально-речевых оборотов, имеющих достаточно прозрачные коннотации, явление мигрирующих формул и интертекстуальных связей.
Но принципы изучения, систематизации и описания семантических структур музыкального языка по-прежнему недостаточно ясны. Выражение «музыкальный язык» и для ученых, и в музыкантском обиходе утвердилось достаточно прочно, превратилось в расхожую метафору. Существование «значащих» музыкальных структур тоже не вызывает сомнения: в научной литературе часто можно встретить понятия музыкальной лексики, семантических формул, фигур смысла. В опоре на слуховые ощущения и ассоциации ученые расшифровывают их значения, гипотетически реконструированные из исторических реалий. Но представление о том, как человек понимает смысл музыкального текста, почему точно «распознает» эмоциональный характер музыкальных «речений», остается достаточно расплывчатым.
Преградой для изучения оказывается стойкое, мифологизированное еще романтиками суждение о безграничной субъективности слушателя, о его суверенном праве индивидуально переживать «музыкальное содержание». Оно характерно и для отношения к исполнителю. О великой тайне великих исполнителей возвышенно и поэтично А.Н. Серов писал еще в середине XIX в.: «Они исполняемое силою своего таланта освещают изнутри, просветляют, влагают туда целый новый мир ощущений из своей собственной души» [3, с. 5].
Сегодня безбрежна литература (научная, методическая, критическая), адресованная исполнителям с рекомендациями, как следует исполнять конкретные произведения, конкретных композиторов. Она свидетельствует как раз о развитой технике воспроизведения смысловых деталей музыкальной ткани, о мельчайших деталях профессионального воплощения «ощущений души». Изучение самих исполнительских версий в аудиозаписи, особенно в сравнении одних и тех же произведений, позволяет зафиксировать колоссальный «разброс» смысловых, содержательных, образных интерпретаций разнообразных деталей текста. Это обстоятельство и очерчивает контуры теоретического противоречия исследований музыкальной семантики, и подсказывает методологические ориентиры для разрешения проблем музыкального значения. В технике интонирования исполнитель не может не опираться на алгоритм значения самых мельчайших элементов музыкального текста, интерпретируя его в измерениях своих образных представлений.
Семантические единицы музыкального языка складываются в стихии функционирования жанра – как необходимость обеспечить запросы среды музицирования, ее содержательно-смысловых ориентиров. Представляется удобным использовать понятие жанрово-стилевой модели, то есть рассматривать жанр в конкретных исторических рамках музыкальной культуры – не просто оперную арию, а барочную, буффонную или романтическую арию, например. По языку сюиты XVI в., барочные или романтические, являются различными жанрово-стилевыми моделями, и проблема описания семантики будет управляться различными смысловыми векторами. Музыкальная лексика каждой из этих моделей будет принципиально различной, отражать разные смысловые модусы, сформированные обществом.
В семантической проекции лексический репертуар – это набор звуковых единиц (формул, клише), которые обеспечивают коммуникацию: понимание, восприятие, переживание музыки. И они настолько конкретны, материально «весомы», что подлежат достаточно точной и жесткой фиксации в нотной записи, обеспечивая многократное точное воспроизведение. Свои эталоны исполнения композиторы с начала XIX в. тоже старались тщательно отразить в нотной записи. Естественно, что культура интерпретации привела к их трансформациям и даже опровержениям. Этой глобальной проблеме посвящено скрупулезное исследование Е.Я. Либермана «Творческая работа пианиста с авторским текстом» [4].
Текст музыкального произведения, авторскую принадлежность которого можно точно атрибутировать, остается неизменным в своих четырех музыкально-языковых подсистемах: мелодических, ладогармонических звуковысотных контурах, метроритмических деталях, пространственной локализации (фактурных рисунках). Вот транскрипции, парафразы, переложения как раз нарушают язык жанровостилевых моделей – в них, естественно, преобразуется и значение лексических формул, фигур. Во всех вариантах исполнения («произнесения») при всем субъективизме «душевных порывов» артист не может превратить радость в скорбь, а восторг в гнев при неизменности музыкального текста, который зафиксирован нотной записью. Что касается слушателя, здесь возможны парадоксальные содержательные интерпретации – наложение ассоциативных пластов. Это визуальные образы, литературнофабульные конструкции, поэтические тексты, интеллектуальные построения. Они конституированы в жанре мелодекламации, в балетных интерпретациях инструментальной музыки в ХХ в., в кино и всевозможных медиатекстах, включая в последнее время визуализации музыки в сетевых сервисах. Но это уже проблема не музыкального языка, а психосоциальных и историко-культурных норм восприятия.
В музыке барочной и классико-романтической традиции сложилась система музыкального языка в тесном единении со словом в вокальных жанрах. И она функционирует в ярко выраженном подобии естественному языку, обладая уровнем лексики, системы семантических фигур. Это мотивы, обороты, составляющие неразрывное единство ритмически определенных мелодических ходов с их непременными ладогармоническими тяготениями и фактурными рисунками. Надо обязательно подчеркнуть: музыкальная семантическая единица чрезвычайно синтетична и даже синкретична. Это – следствие ее интонационной природы. «Значащие» фигуры в музыкальном языке (при всем нашем желании его систему уподоблять естественному языку) конструируются исключительно из интонационного строя речи, в очень незначительной степени закрепляясь за значениями слов в вокальных жанрах. Все реалии этого языка по своей условности и эфемерности на порядки превосходят семантику вербальной лексики – его знаки совершенно не привязаны к форме слова, только к его интонированию. Поэтому, кстати, вокальная музыка всегда доступна полноценному восприятию без слов и допускает исполнения в переводах (хотя здесь неизбежны искажения смыслов интонаций из-за трансформаций речевых синтагм).
Интонационные системы европейских культур близки друг другу, различаются разве уровнями эмоциональной экспрессии. Стоит сравнить их с эмоциональными модальностями речи, например, в восточноазиатских языках, чтобы обнаружить, что европеец далеко не всегда способен различить радость и скорбь, равнодушие и гнев, печаль и восторг. Речевые этикеты в китайской, японской, индийской культуре, отражающие нормативы сдержанного, скрывающего чувства поведения, оказываются чрезвычайно трудными для адекватной коммуникации европейца. Это, правда, тема другой статьи.
При всем различии национальных языков европейская речевая система запечатлена в европейской музыке специфическими интонационными знаками, способными выразить очень подробно, очень детально характер эмоций. Это у самых истоков профессиональной музыкальной культуры Европы отражено в особом эмоциональном модусе богослужебного пения – кротком, смиренном, покаянном. Что и служило долгие столетия «яблоком раздора» между церковью и оперой с ее стилем «concitato» («взволнованным») в эпоху барокко, с театрально-экспрессивной декламацией в концертных, по сути, жанрах «Реквиема» у В. Моцарта и Дж. Верди, с чувственно осязаемой красотой «Всенощного бдения» С. Рахманинова. Светская музыкальная культура создала в эти столетия сложную и разветвленную систему «лексики», которая образует «застывшие» фигуры экспрессивных знаков интонаций. Все средства и элементы музыки сложились в знаки эмоций-интонаций, которые регламентировались на различных этапах культуры в характерных образно-символических сферах.
Один показательный пример. В музыке периода западноевропейского барокко возникла новая, чрезвычайно характерная для культуры тема: скорбное страдание в предчувствии смерти-возмездия за грех. У истоков ее стоял, конечно, образ распятого Христа: не случайно слова «Lasciate mi morire...» «Пошли мне смерть...» («избавь от муки») встречаются очень часто в либретто опер. В связи с этим символом сложилась разветвленная система интонационных знаков экспрессивной мольбы: нисходящее полутоновое задержание в мелодии – с предъемом, проходящее, взятое скачком, скачком покинутое для опевания и т.п. Подобный звукокомплекс встречается сотни раз в опере XVII в. – у Г. Перселла, К. Монтеверди, А. Кальдара, А. Скарлатти и других композиторов в разных вариантах. Но изменения гармонии в задержании и различные фактурные рисунки не мешают отнести его к некоему семантическому гнезду, единство которого образует эмоция, выраженная интонационно. Кстати, только таким - 214 - образом, в образных символах, видимо, и возможно составлять семантические перечни, подобные вербальным словарям. Функцию условного алфавитного принципа в музыке пытался полвека назад отразить Д. Кук принципом ладовой ступени в главе «Some basic terms of musical vocabulary» в монографии «Язык музыки» [5]. Но образно-эмоциональные модусы интонирования в поле символов культуры представляются более адекватным выбором для систематизации музыкальных семантем.
Музыке для выражения подвластно далеко не все, хотя она может обрастать самыми разнообразными содержательными реалиями и интеллектуальными ассоциациями. Ее стихия, ее мир – чувства, система чувств, культивируемых обществом в конкретном историческом и географическом пространстве. В иных, близких по духу пространствах эти системы знаков эмоций могут быть адекватно «прочитаны» и интерпретированы – в соответствии с актуальными ритуалами чувств (схожими и обновленными). Люди меняются, но утешаются и веселятся, сердятся и гневаются, печалятся и скорбят, радуются и восторгаются. Музыкальными текстами, запечатлевшими эти эмоциональные модусы, они коммуницируют на огромных расстояниях, величиной в десятки поколений. «Археология» музыки позволяет в звуках, запечатленных условными каркасами нотных записей, раскодировать эти messages исчезнувших культур, уловить бессмертные фантомы души композитора, поведавшего о чувствах от имени своих современников.
Музыкальные «послания», композиторские тексты точно фиксируют речевые рельефы отдаленных обществ как интонационно-речевые портреты человека – интонационные срезы эмоционального поведения. И каждая фаза культуры «пропускает» эти интонационные алгоритмы через свои эмоционально-речевые этикеты, через свои нормативы интонирования. Это и составляет сущность исполнительской интерпретации – интонационное перевоплощение интонационных знаков . Как ни тавтологична эта понятийная конструкция, по смыслу она буквальна. По умолчанию, по распространенному заблуждению выделение знаковых структур музыкального языка, семантических формул из музыкальных текстов музыкальная наука хочет осуществить с жесткостью и прозрачностью значения слова в словаре. А ведь слово в произнесенном литературном художественном тексте нагружено контекстными оттенками смыслов, оно постоянно вращается в интонационных метаморфозах декламации. Играя Шекспира (неважно в подлиннике или переводном тексте), актер воспроизводит интонацией бесконечные эмоционально-смысловые оттенки текста в нормативах своего времени, не задумываясь, как это могло звучать в шекспировском театре. А И. Гайдн запечатлевает музыкальными средствами свое представление об интонации, сочиняет «формулы» произнесения шекспировского текста, свойственные современной ему эмоциональной культуре, в миниатюрной драматической песне на слова «She never told her love» из «Двенадцатой ночи». Исполнитель сегодня интерпретирует все интонационные знаки гайдновского галантного XVIII в. в регламентах нашей речевой традиции, в современных речевых этикетах.
Насколько стремительны трансформации в этой стихии, легко заметить, наблюдая различия интонационных систем речи в сравнении по кинофильмам 50-х, 70-х, 90-х гг. и сегодня, в начале второго десятилетия XXI в. Герои продолжения знаменитой «Иронии судьбы» изъясняются в иной, новой интонационно-эмоциональной модальности; даже те, которые были персонажами фильма Э. Рязанова. Актер С. Безруков в роли Сергея Есенина в телевизионном сериале Е. Зайцева намеренно стилизует свою интонацию чтения стихов под оригинал декламации поэта (чтение стихов Есениным было записано на фонограф). И сравнивая его с есенинским персонажем Хлопушей в исполнении В. Высоцкого в театре на Таганке в конце 60-х гг., мы отчетливо фиксируем различные мелодические и экспрессивные типы интонационных рельефов. При всей индивидуальности Высоцкого его речь магически отражала свое время, одновременно влияя на него. А Безруков декламирует в сегодняшних нормах речевого выражения эмоций.
Музыка стремительно меняет свои языки, особенно в XX в., по многим причинам. Но изменения в нормативах речевой культуры общества играют огромную роль в возникновении новых языков – это теории еще предстоит более внимательно изучить и осмыслить. Теория же музыкальной семантики требует колоссального слухового тезауруса ученого, смежных знаний в области семиотики культуры, слуховой реактивности на речевые этикеты. Без изучения социально-психологических установок культуры на регламенты чувств и их речевых проявлений к музыкальной семантике тоже трудно подступиться.
Композиторы способствуют звуковому «овеществлению» представлений человека о системе чувств, выражаемых через системы речевого поведения. В этом смысле музыкальные языки являются коммуникативным кодом в историческом пространстве культур.
Ссылки:
-
1. Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и
свойства. М., 1998.
-
2. Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонацион
ная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999.
-
3. Цит. по: Алексеев А.Д. Интерпретация музыкального произведения. М., 1984.
-
4. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988.
-
5. Cooke D. The Language of Music. London, 1960.
Список литературы Музыкальный язык как коммуникативный культурный код
- Арановский М.Г. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998.
- Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999.
- Алексеев А.Д. Интерпретация музыкального произведения. М., 1984.
- Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988.
- Cooke D. The Language of Music. London, 1960.