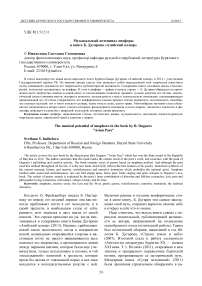Музыкальный потенциал анафоры в книге Б. Дугарова «Азийский аллюр»
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Бурятоведение
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется новая книга народного поэта Бурятии Баира Дугарова «Азийский аллюр», в 2014 г. удостоенная Государственной премии РБ. По мнению автора статьи, она знаменует собой определенный итог творчества известного поэта, совпавший с расцветом его творческой и публикаторской активности. Содержание книги составили циклы стихотворений, полностью построенных на анафоре. И хотя к анафоре - рифме в начале строки - Б. Дугаров обращался на протяжении всего творчества, именно в новой книге ее использование позволило проявить лучшие качества его поэзии: диалектический синтез сиюминутности, истории и вечности, музыкальность стиха и сказительскую интонацию, олицетворяющую национальный дух. В статье утверждается, что анафорическое письмо придает стихам напевность, мелодичность, своеобразие степных мелодий: это и топот конского аллюра, пение птиц в степи, шепот травы. Многообразие звучания стиха объясняется соединением в авторе книги ученого-историка, фольклориста-эпосоведа и поэта-лирика, эпического сказителя и философа, живущего в единстве с природой, культурой, историей, своим временем.
Анафора, национальная стихия, поэтические жанры, музыкальность, интонация сказителя-рапсода, творческое кредо, лирический герой в единстве с миром
Короткий адрес: https://sciup.org/148182671
IDR: 148182671 | УДК: 821.512.31
Текст научной статьи Музыкальный потенциал анафоры в книге Б. Дугарова «Азийский аллюр»
Когда-то О. Фрейденберг писала Б. Пастернаку по поводу его поздней лирики: она как никогда приближает поэта к его молодости, и в своей зрелости, в наибольшем уходе от себя, раннего, поэт оказался в двух шагах от своей юности. Эти строки приходят на ум, когда вчитываешься в содержание книги Баира Дугарова «Азийский аллюр» (2013). Видимо, срабатывает некий закон целостности, когда в восприятии новой, неожиданно открывшейся стороны в настоящем поэте не просто напрашивается весь контекст его творчества, а протягиваются линии между первыми шагами, которые были еще ученичеством, только вступлением в поэзию, и той «неслыханной» новизной в зрелости, которая вроде бы далека от «начальной поры» и все-таки находится в непосредственном родстве с ней.
Включив ранние и поздние анафорические стихи в свою книгу, Б. Дугаров тем самым закольцевал свой путь, сохранил верность самому себе и открыл в себе что-то новое.
Надо отметить, что выход книги совпал с периодом издательской, публикаторской активности ее автора, направленной на подведение своеобразного итога поэтической работы. Таким был поэтический сборник, вышедший в год 60-летия Б. Дугарова, «Струна земли и неба» (2007). Итоговой стала и работа составителя «Антологии литературы Бурятии ХХ — начала ХХI века. Т. I. Поэзия» (2011), открывшая в нем знатока и прекрасного переводчика бурятской поэзии, прозревающего ее исторический путь. Мемуарная книга «Сутра мгновений» (2011) была пронизана стремлением обнаружить в ка- лейдоскопе событий одного-единственного года целый сгусток собственной судьбы, растворенной в судьбе страны, родной республики. И совсем другой выглядит книга «Азийский аллюр», полностью построенная на анафоре — единоча-тии, рифме в начале строк. Она не претендует на какую-то итоговость, не стремится вновь и вновь подтверждать статус автора, национального поэта, пишущего на русском языке, — глубоко национальная по внутреннему своему духу, по единству формы и содержания, она, как и ранние книги поэта, отличается благозвучием, мелодикой и инструментовкой стиха, напевностью, так свойственными родной для автора речи и родным эпическим текстам.
Анафорическая форма стиха — вот что объединяет раннего и позднего Дугарова. Можно вспомнить известное раннее стихотворение «Морин-хур»: « О, пой, струна волосяная, / о горьком запахе становий, / и всадник пыльный, замирая, коня у юрты остановит. / Струна, струна волосяная, / чем в сердце родину заменишь? / Пой, пой, струна моя степная, / пой так, как только ты умеешь» [3, с. 86]. Повтор звуков в начале строк еще не дает анафору в чистом виде, но дух «азийских» созвучий во многом напоминает стихотворения нового сборника. В этом можно убедиться, если выявить в нем музыкальный аспект, не исчерпываемый внешними тематическими упоминаниями и связанный с глубинным содержанием, со всей Вселенной поэта.
Востребованность анафорической поэзии, ее «звездный час» подтвержден не только данной книгой, но еще и выходом в 2013 г. в московском издательстве стихотворного сборника под названием «Анафоры» бурятского поэта А. Ул-зытуева, тоже пишущего на русском языке. Рецензенты уже сравнили уровень мастерства двух авторов в использовании анафорического стиха [5; 7]. На фоне одностороннего подхода к анафоре «менее артистичного и догматичного А. Улзытуева» [7, с. 189] особенно видна принципиальная новизна Б. Дугарова в «Азийском аллюре», прежде всего, в гармоничном сочетании анафоры с конечной европейской рифмой и стихотворной техникой разных культурных традиций. Да и по широте жанрового диапазона с Б. Дугаровым трудно состязаться: так, в книге имеются такие новые жанровые формы, как вертикальные стихи и венок восьмистиший, присутствует жанр поэмы, которого нет у А. Улзы-туева и которому придан феноменальный облик «степной саги» — бурятского улигера, а жанр сонета с анафорической рифмой получает со- вершенно необычный восточный колорит.
В стихотворении из цикла своего сборника «Краткостишия» Дугаров так лаконично и образно пояснил обращение к начальной рифме, свойственной бурятскому стиху: «Ямб коронован, анафора бродит в тени. / Я иноходец в пространстве, где правит галоп» [2, с. 183] (в дальнейшем ссылки на страницы этого издания будут даны в тексте в круглых скобках). Слова о необходимости вывести анафору из тени, на свет совершенно отчетливо связаны с пространственным нахождением лирического героя — это родная степь, помнящая о своем кочевническом прошлом. Указание на связь анафоры с этим пространством симптоматично, поэтому название книги и названия отдельных ее циклов: «Протяжные гимны», «Серебряные стремена», «Инь иноходца», «Степные саги» — все пропитано степными запахами, звуками скачущего коня.
Многозначность образа коня-иноходца у Ду-гарова — это еще и дань образу поэтического Пегаса, который не раз появляется в его книгах, не только стихотворных, так, в прозаическом тексте «Сутры мгновений» он тоже используется вполне поэтически: автор, говоря о сборнике своего товарища по литературному цеху, замечает: «Пегас у А. Т. еще далеко от стойла не ускакал, все еще сбивается на шоссе, укатанную дорогу, хотя временами скачет хорошим галопом» [4, с. 255].
Да, анафора помогает возникновению звукового ощущения особого пространства — мира степи, где так естествен звук конского аллюра. Но гораздо важнее внутренняя образная связь между анафорической формой и смыслом, которая в книге Дугарова глубоко национальна. Например: « Эхо анафор степных ощущаю дыханьем своим »; « Лад стихотворный — от родины » (с. 7). Ритмика, рожденная созвучием первых слов/слогов в бурятском или монгольском анафорическом стихе — это, по словам поэта, особая ритмика, неотъемлемая от национальной стихии. Так, в мемуарной книге стихи монгольского поэта для автора — «как озвученный в слове простор», они «очаровывают, словно мелодия протяжной песни». Он может признаться: «…неудержимо тянет к бурятской народной песне, в ней есть аромат степного бытия» [4, с. 255].
Мысль о притяжении звуков, музыки родной степи не раз выражена в строках из «Азийского аллюра», так, в стихотворении «На исходе тысячелетья», это сделано с помощью рифмы как традиционной, конечной, так и внутренней, анафорической: «Крутые волны бытия / Смели с планеты след монгольского коня. / Но предков дух возвысить до вселенной / Сумела Степь в свой звездный час. / И песнь ее сказаньем сокровенным / Сквозь времена во мне отозвалась» (с. 97). Все рифмы связывают здесь слова с одним и тем же общим значением: песня (музыка) доносит (через древние монгольские сказания) дух степи, неотрывный от конской скачки. Повтор звука с не просто подчеркивает связь ключевых для поэта слов — в них заявлены ценности его поэтического мира. И в этом ряду ценностей (песня, степь, конь) главенствует музыка, потому что включает в себя звуки и степи, и лошадиного бега. Не случайно в самом названии книги «Азийский аллюр» уже закодирована анафора, выраженная не в лоб, а глубоко метафорически, и заключающая в себе общий замысел книги.
Можно перечислить немало выражений, подтверждающих это превалирующее положение музыки: «Протяжных долгих песен льются переливы. / Ликует степь, вся в полумесяцах подков » (с. 131); «Эра могучих сказаний зачем мою песню тревожит? / Эхо анафор степных ощущаю дыханьем своим» (с. 7). И топот гарцующих коней, и звон летящей в степи стрелы — все эти звуки растворяются в песне, понятой как музыка вообще.
Вообще книга полна самых разнообразных музыкальных звуков, песенной мелодией могут стать разные жанры – гимн, ноктюрн, вальс, прелюдия, рапсодия, сюита, серенада и другие. А многочисленное упоминание музыкальных инструментов, в том числе славянской свирели и восточных зурны и морин-хура, необходимо, как нам кажется, для представления некоего экэвивалента природных звуков. Все упомянутые в книге инструменты воспроизводят музыку природы: шепот степи, звон земли, звуки грома, чтобы уравнять природную жизнь и человеческое присутствие в ней, «возглас неба громовый и бубна шаманского звук».
Лирический герой постоянен в своих музыкальных предпочтениях. В стихотворении «Родине» размышление об отчем мире, о прошлом своей малой родины, где « даже холмик в степи для меня как престол / Песнопений моих, обнимающих горечь и свет бытия » (с. 119), принимает облик древнего песнопения. Даже любовное томление и страсть сопровождает все та же древняя и вечная музыка, как в стихотворении «Остров любви»:
Кони летят и покоя не знают подковы.
Кровь закипает от скачки, отпущенной только гривастым.
Сколько легло городов под копытами и башен дымилось.
Снова планета на круги своя возвращалась, Дали сгущались, и вечный простор расстилался и Даже казалось, не будет конца этой скачке (с. 82).
И конечно же, музыкальная стихия в книге Дугарова напрямую связана с выражением поэтического кредо, ощущением избранничества лирического «я»: « Во мгле я растаю, а может, и нет? / В мгновенье моем — мириады лет. / В каждой травинке не мой ли свет, / В каждой тропинке не мой ли след » (с. 192). Потому что как никто герой наделен чутким слухом, способностью оглянуться и вглядеться «сквозь время, сквозь дали горизонтов». Есть в этом небывалом качестве и оборотная сторона, ведь он, «номадов отпрыск», понимает, что несет «памяти тяжелой бремя». Но больше в этой способности божественной благодати, потому что предназначение своей поэзии лирический герой Ду-гарова воспринимает как вещий знак или указание свыше — оно приходит ему часто в сновидении или стихийной работе воображения (« И снится мне... / И мнится мне ...»), и даже в любое время: « Небеса надо мною вздымаются синею юртой. / Не беда, что приходит анафора в час неурочный » (с. 34), где повторяющийся звук н — небесного свойства, подсказан свыше, внушая счастье творчества.
Музыкой, естественно доносящейся с небес, загадочной в своей будничности, становятся у поэта голоса природы, прежде всего пение птиц: «Жимолость расцветает, и лесные жар-птицы ей поют дифирамбы », « жаворонок в небе отбивает чечетку » (с. 90). При этом песня лесной птахи происходит под таинственный аккомпанемент: « И пела в хвойном небе серенькая птица, / И песнь ее простая до сих пор мне снится / И отзывается чуть слышною струной (с. 118).
Стихотворение «Дзинь» отождествляет природные звуки с самой вечной жизнью. Звук, воспроизведенный в названии, сравнивается со звуком пролетевшей стрелы, который может быть равен мгновенью и может охватить тысячелетье. Звуки дз / дж(ж) в начале всех 22 строк стихотворения передают необычную музыку, у которой есть свой лирический смысл, выраженный в многозначном слове жизнь . Рифмующееся с лековесным дзинь слово жизнь употреблено в значении продолжающегося, нескончаемого времени, тем самым уравниваются миг и вечность, время, равное мгновению, и время длиной в тысячелетие.
Как видим, лирический герой в такой картине мира выступает историком и философом, поскольку жизнь его – круженье в сансаре времен. Как в звучании слова осуществляется это «круженье»? Можно в этой связи привести слова исследователя о поэзии Б. Пастернака: «Распространение звуковой волны дается в пространстве и во времени. Стены зданий… продолжают этот звук в эхо. Дальше звук проходит через ряд зрительных превращений в результате его представления через объекты, находящиеся в поле звуковой волны» [1, с. 264]. На наш взгляд, речь идет о самом начале рождения стиха, ведь затем на первое место выступает вслушивание в звук, ведь звуковая волна должна достичь цели, ее кто-то должен услышать, угадать и, главное, достичь понимания, душевного контакта с ней. Здесь многое зависит от самого «слушателя», лирического «я», его способности вступить в этот контакт. Как, например, в стихотворении «Кёльн», где впечатление от европейского города вначале насквозь звуковое (превращение звука в эхо, в ряд зрительных представлений), а за-тем-то и происходит вслушивание субъекта в музыку созданного пространства, то, что называется настроенностью на эту звуковую волну. В стихотворении «Кёльн» это настроенность восточного человека, который присовокупляет к постороннему звуку и собственную волну-ассоциацию в начале каждой фразы:
Клёкот времен затихает, но прошлого тени витают над Рейном.
Кёльнский собор вздымается ввысь монументом Европе вечерней.
Колоколов слышится перезвон, словно в пространстве за облаками
Кони небесные скачут, позванивая стременами.
Клики гуннов доносит легенда веков об Урсуле прекрасной.
К лику святых причащенная дева хранит древний град от напастей.
Клёнов опавшие листья, как свитки мгновений, шуршат под ногами.
Кёльш – хмелящий напиток забвения – пью я за Кёльн на прощанье (с. 28) .
Музыка созвучий из названия города, музыкально-ассоциативная работа сознания лирического героя рождают ощущение всякого отсутствия пространственных преград, временных границ. Его слух готов различать всё звучащее вокруг него бытие — вначале в реальном звоне колоколов он различает небесный звон конских стремян (звук с); клёкот времен в первой строфе и клики гуннов — во второй рождают в сознании музыку древней истории, и возникает другое созвучие: Клёнов опавшие листья как свитки мгновений шуршат под ногами (с. 28), где аллитерация звонкого в сменяется оппозиционным ш — музыкальным звуком, который продолжится в следующей, заключительной строке: «Кёльш — хмелящий напиток забвения пью я за Кёльн на прощанье». Доминирующий в начале строки повтор К заявляет тему собора, но вслушивание лирического героя в себя рождает состояние, созвучное метафорам субъективного состояния: листья клёна — свитки мгновений, вино кёльш — напиток забвения. Чередование к и в осложняет тему города и собора наличием внутреннего хронотопа «я», одновременно пребывающего в разных временах и потому способного ощутить гармонию и внутри себя, и в мире.
Музыка песнопений в книге всегда перекликается с интонацией бурятского эпоса, рожденье песни идет от эпических сказаний, от искусства древних рапсодов-сказителей, неразрывно связанного с голосом божественного неба: « Отзываясь на вещие звездные знаки природы, / Остроглазый сказитель свое начинал песнопенье. / Огнь божественных слов золотил лиственничные кроны, / Отзвук песни богов очаровывал птиц и оленей (с. 34).
Признания лирического героя, рассыпанные по всей книге: «Сказанья шлют мне богатырского коня (с. 130); «Незакатное слово сказаний светится устало» (с. 33); «Трепетно слушаю степь, и гомеры степные глядят на меня с укоризной» (с. 6) и другие — также овеяны анафорическим духом, который подсказан сказите-лям-улигершинам свыше. Именно небесный голос, убежден Б. Дугаров, подсказал первому поэту — предку улигершинов сказанье-песню – она была анафорической. «Так азийский аллюр обрел Пегас. / Так анафоры пробил звездный час» (с. 3).
А в сонете из цикла «Бронзовая роза» поэт уравнивает поэзию и искусство рапсода благодаря их связи с музыкой:
Молитвенная ода небесами дышит.
Могильная трава сама себя колышет, Сокрытый вздох столетий чуя под собой.
И знак анафоры отсвечивает бронзой.
И знает лишь рапсод, как просто и непросто — Скрипичный звук придать струне волосяной (с. 122) .
На вопрос, в чем сходство поэта и улигерши-на, отвечает цикл «Степные саги». Так, в поэме «Стрела Хухэдэя» их голоса сливаются, потому что Б. Дугаров имитирует музыкальную форму улигера и в поэмном повествовании стилизует спокойно-рассудительную интонацию улигер-шина, поющего песнь-сказание о Гэсэре, бога- тыре-небожителе, посланном на землю для борьбы со злом — многоголовым мангадхаем. Затем поэтичный «пролог» сменяется красочным описанием поединка героев-антиподов, который так и не завершается окончательной победой Гэсэра. В кульминационный момент звучит голос уже не сказителя, а самого героя — и это слова о бессмертии и его, Гэсэра, и его врага, мангадхая. Оба они — небесного происхождения: если Гэсэр рожден на земле по воле названного своего отца Хухэдэя, бога молнии и грома, то воплощенное в мангадхае зло также спущено на землю как результат вражды и злобы между сыновьями самого Эсэгэ Малан-хана, предводителя небесных тэнгриев. Поскольку «Смертные и боги — связаны все воедино», постольку «Связаны зло и добро одной пуповиной» (с. 174). Идея о вечном боренье добра и зла, заложенная в эпическом сказании, подчеркнуто анафорически, в смысловом плане при этом проявилось чувство авторского восхищения народной диалектикой бытия. Автором как-то было замечено: «Сказители бурятские хорошо чувствовали диалектику бытия. Зло и добро — это как сиамские близнецы...» [4, с. 25]. Эта же идея подтверждена не только эпическим ладом «степной саги», но и в терцинах лирического стихотворения «Шэнэхэнское бистро», где герой поднимает тост «...за нас на белом свете, / За просто быть самим собою в круговерти — / На вираже времен, с добром смешавших зло» (с. 108).
Сам поэт, вслед за сказителями, проявляет подлинно диалектический взгляд на мир, о чем восхищенно воскликнул один из критиков-рецензентов: «Возможен ли в наше время поэт, который так глубоко погружен в евразийское прошлое, центральноазиатскую топонимию, привязан к своему роду, близко ощущает « зыбкие тени богов » и так величаво отстранен от суеты наших будней?» [6, с. 241].
Поэт Б. Дугаров — еще и ученый-гэсэровед, поэтому музыка эпоса в поэме есть результат единства поэтического творчества и научной рефлексии знатока бессмертного эпоса. Причем музыка звучит с помощью не только фольклорной, но и той поэтической традиции, которая идет от «Сокровенного сказания монголов» (1240). В этой традиции, если судить по книге поэта, доминирующее значение принадлежит анафоре, организующей музыкальную компози- цию стиха в целом. Степная сага и начинается-то с музыки божественных звуков, когда действия Хухэдэя — тэнгри грома и молнии сопровождается грозными аккордами торжественного стиха: «Грозно взмахивал бог неистовый ослепительной плеткой, / Гром прокатывался по всем закоулкам притихшей Вселенной»; «Бубен грома гремел в его могучих руках, / Будто звуками он приводил в содроганье небо и землю»; «Это конь громовержца вставал на дыбы, издавая могучее ржанье, / Эхо долго отдавалось в мрачных ущельях и хвойных чащобах» (с. 153154). И весь сюжет о легендарном эпическом богатыре, которого Хухэдэй — «Вселенной хранитель» послал на землю, «чтобы спасти от беды земную ширь», построен как песнь сказителя, чья анафорическая речь особенно торжественна в финале и звучит «как знак небес».
Несмотря на то, что явление анафоры в анализируемой книге представлено нами как восточный, точнее, тюрко-монгольский стиховой феномен, следует признать, что художественная концепция, предложенная Б. Дугаровым, отвечает мощному движению русской поэзии к синтезу культур Запада и Востока. В этом смысле книга бурятского поэта — удачнейшая для современной поэзии попытка своего, глубоко самобытного и талантливого понимания этого синтеза — как диалога, как взаимодействия и взаимопроникновения разных культур и цивилизаций.
Таким образом, звуковое, музыкальное ощущение мира, возникшее в самом начале пути Б. Дугарова — будь то песня кочевника в степи или песня-легенда старого охотника — проявило себя со всей силой в анафоричности звукового строя позднего творчества. Анафора в «Азий-ском аллюре» не отделена от идейного и эмоционального смысла, придает выразительность интонации национальной стихии — самобытных улигеров, поэтичного «Сокровенного сказания монголов», протяжной песни, древней и молодой. Такое своеобразие звучания объясняется соединением в авторе книги ученого-историка, фольклориста-эпосоведа и поэта - лирика, эпического сказителя и философа в одном лице, находящемся, благодаря необычному слуху, в особенном душевном контакте с природой, культурой, историей, живущем со своим временем и вечностью наедине.
Список литературы Музыкальный потенциал анафоры в книге Б. Дугарова «Азийский аллюр»
- Арутюнова Б. Звук как тематический мотив в поэтической системе Пастернака//Борис Пастернак и его время: материалы междунар. симпозиума: Boris Pasternak and His Times: Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak. -Berkeley, 1989.
- Дугаров Б. С. Азийский аллюр. -Улан-Удэ: Республиканская типография, 2013. -208 с.
- Дугаров Б. Небосклон. -Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. -145 с.
- Дугаров Б. С. Сутра мгновений. -Улан-Удэ: Республиканская типография, 2011. -440 с.
- Рыбас А. Баир Дугаров. «Азийский аллюр». Предисловие к подборке стихотворений//Вече. Электронный журнал русской философии и культуры (Санкт-Петербург). -2014. Вып. 25 . -URL: http://philosophy.spbu.ru/rusphil/1405/8737/12430
- Хузангай А. Бурятский бродяга Дхармы//Дружба народов. -2015. -№ 3. -С. 239-241.
- Яранцев В. Свиток мгновений, анафоры магия//Сибирские огни. -2013. -№ 10. -С. 187-190.