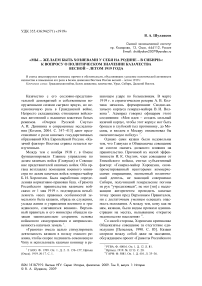«Мы… желаем быть хозяевами у себя на родине - в Сибири»: к вопросу о политическом значении казачества весной - летом 1919 года
Автор: Шулдяков Владимир Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется комплекс причин и обстоятельств, обусловивших усиление политической активности казачества и повышение его роли в Белом движении Востока России весной - летом 1919 г.
Гражданская война, белое движение, казачество, урал, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/14737032
IDR: 14737032 | УДК: 355.436:94(571)
Текст научной статьи «Мы… желаем быть хозяевами у себя на родине - в Сибири»: к вопросу о политическом значении казачества весной - летом 1919 года
Казачество с его сословно-представительной демократией и собственными вооруженными силами сыграло яркую, но неоднозначную роль в Гражданской войне. Непросто складывались отношения войсковых автономий с высшими властями белых режимов. «Очерки Русской Смуты» А. И. Деникина и современные исследования [Козлов, 2004. C. 347–413] дают представление о роли казачьих государственных образований Юга Европейской России. «Казачий фактор» Востока страны остается неизученным.
Между тем с ноября 1918 г. в Омске функционировали Главное управление по делам казачьих войск (Главуказ) и Совещание представителей казачьих войск. Оба органа возглавлял помощник военного министра по делам казачьих войск генерал-майор Б. И. Хорошхин. Была выработана определенная нормативно-правовая база. «Грамота Российского правительства казачьим войскам» от 1 мая 1919 г. подтвердила незыблемость «всех правовых особенностей земельного быта казаков, образа их служения, уклада жизни и управления военного и гражданского, слагавшихся веками». Верховный правитель и его министры обещали казакам законодательно сохранить основы войскового самоуправления и неприкосновенность казачьих земель 1 .
«Грамота» имела целью стимулировать деятельность казаков в пользу омского режима, чтобы скорее подчинить семеновскую Читу и использовать казачью конницу в ре- шающем ударе по большевикам. В марте 1919 г. в стратегическом резерве А. В. Колчака началось формирование Сводно-казачьего корпуса генерал-майора В. И. Волкова 2. Адмирал говорил офицерам этого соединения: «Моя идея – создать сильный казачий корпус, чтобы этот корпус мог быть брошен в глубокий тыл противнику, до Москвы, и входом в Москву ознаменовал бы окончательную победу» 3 .
Однако сами казаки были недовольны тем, что Главуказ и Общеказачье совещание не смогли оказать должного влияния на правительство. Причиной их малой эффективности И. К. Окулич, член совещания от Енисейского войска, считал субъективный фактор: «Генерал-майор Хорошхин, скомпрометированный некоторыми коммерческими операциями, неопытный политический деятель, не знающий совершенно Сибири, получивший генеральские погоны из рук “учредиловцев”, не мог [ни] с надлежащим авторитетом проводить казачью точку зрения пред Верховным Правителем, ни с достаточным умением освещать опасность положения. А между тем, кому как не нам, казакам, были видны промахи администрации на местах, вызывавшие открытое недовольство населения» 4 .
Со своей стороны, Хорошхин критиковал Общеказачье совещание за отсутствие единодушия [Пепеляев, 1990. C. 85]. Казаки спорили между собой даже на заседании, обсуждавшем проект «Грамоты Российского
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © В. А. Шулдяков, 2009
правительства казачьим войскам» (по поводу неприкосновенности казачьих земель), что вызвало гнев председательствовавшего Колчака 5 . Выработка единого казачьего курса становилась актуальнее, так как в Общеказачье совещание включались представители «просеменовских» войск: Амурского (январь) и Уссурийского (май 1919 г.) 6 .
Особое недовольство казаков вызывало «небрежное отношение» к их нуждам со стороны власти 7 . При общей скудости ресурсов Омского правительства и огромных потребностях казаков, проводивших тотальные мобилизации и несших колоссальные потери, неудовлетворительность снабжения и постоянные трения на этой почве были неизбежны. Но факты свидетельствуют, что Ставка и военное министерство отдавали приоритет «регулярным» частям собственного формирования, а «иррегулярные» автономные казачьи войска снабжали материально-техническими средствами и деньгами по остаточному принципу. У казаков возникало ощущение, что в армии они на вторых ролях, а у власти – «на положении пасынков судьбы» 8 .
По этому поводу начальник Сибирской казачьей дивизии полковник Н. П. Кубрин в рапорте войсковому атаману от 5 января 1919 г. писал: «Главное, что необходимо провести в жизнь безотлагательно, это изменить отношение к казакам, которым предоставляется честь и первое место в минуту опасности, а по миновании в них надобности они становятся в положение пасынков, не считаясь с тем, что сибиряки, выступившие первыми борцами с большевистским засильем, заслужили своей боевой работой и работой, направленной к охране государственности, и более лучшее отношение к себе, а, следовательно, и заботы об их нуждах, не говоря уже о том, что в Акмолинской области с ними нужно считаться не как с пришельцами, не заслуживающими внимания, а как с хозяевами» 9 .
Еще больше оснований для жалоб на власть было у казачьих партизанских частей, вынужденных почти все добывать «своими средствами». Полковник П. И. Виноградский, командир 2-го Устькаменогор- ского партизанского казачьего полка, в июне 1919 г. переброшенного из резерва Партизанской дивизии Б. В. Анненкова на фронт, в рапорте своему атаману от 23 августа 1919 г. отмечал: «К партизанам относятся враждебно, стараясь ничего не давать и всюду урезать, в боевой обстановке – заискивают. Кроме того, распускают нелепые слухи, которые я всегда прекращаю документальными данными» 10. Анненковцев, политически надежных и великолепно настроенных добровольцев, бросили на фронт без самого необходимого: без пулеметов и обоза, без лошадей и седел, без шинелей и сапог 11. Виноградский обратил внимание Анненкова на приемы работы штаба Сибирской армии в Екатеринбурге, в котором ему дали наряды на пики и походные кухни в города, уже сданные противнику 12.
Для казаков отступление означало потерю территорий их войск: Уральского, Оренбургского, а в августе уже и Сибирского. Поэтому летом 1919 г. казачья критика военной политики омского режима становится все резче. На 5-м войсковом круге сибирцев генерал В. И. Волков, специально приехавший с фронта, прямо обвинил тыл в интриганстве, в отсутствии заботливости о фронте, а органы, ведавшие снабжением и обеспечением армии, – в канцелярско-формальном, безучастном отношении к нуждам войск. «В результате, – говорил Волков, – нет ни питательных пунктов, ни настоящего ухода за ранеными; санитарный персонал не осматривает раненых по неделям» 13 .
Важнейшими казачьими задачами весны 1919 г. были примирение Колчака и Семенова и политическое объединение уралосибирского и дальневосточного казачеств. Ведь атаман Особого Маньчжурского отряда полковник Г. М. Семенов после сговора с войсковыми атаманами уссурийцев и амур-цев, И. П. Калмыковым и И. М. Гамовым, и проведения приговорной кампании в забайкальских станицах теперь выступал перед Омском в качестве Походного атамана Дальневосточных казачьих войск [Савченко, 1999. C. 44–46].
На Семенова «пытались повлиять в примирительном смысле все казачьи организации». Ключевую роль в закулисных переговорах, проведенных в Чите и Владивостоке и приведших в итоге к окончательному урегулированию в конце мая 1919 г. «Читинского инцидента», сыграл войсковой атаман сибирцев генерал-майор П. П. Иванов-Ринов. В декабре 1918 г. Колчак назначил его командующим войсками Приамурского военного округа и помощником по военной части Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке. Во Владивостоке, сравнив поведение американских и японских интервентов, «Иванов-Ринов сразу же попал в лагерь японофилов». «Установив солидарность с Семеновым и другими дальневосточными атаманами, он вместе с ними стал действовать против американцев», а Омск принялся бомбардировать телеграммами «с указанием на необходимость пойти на уступки в Семеновском вопросе и опереться на трех атаманов Дальнего Востока как на единственную реальную силу в этой части Сибири» [Сукин, 2005. C. 359, 464, 462].
По мнению В. Е. Флуга, на Дальнем Востоке с благословения японцев сложился «тайный казачий союз или блок». Основой его послужил дуумвират П. П. Иванов-Ринов – Б. Р. Хрещатицкий (начальник штаба Российских войск в полосе отчуждения КВЖД, донской казак), к которому затем присоединились и дальневосточные атаманы 14 . С отзывом генералов Иванова-Ринова и Хрещатицкого в Омск «казачий блок» на Дальнем Востоке не только не распался, а продолжал укрепляться [Будберг, 1924. C. 278–283]. Ставку на него как реальную силу в борьбе с партизанским и подпольным движением был вынужден сделать и сменивший Д. Л. Хорвата ставленник Омска генерал-лейтенант С. Н. Розанов [Сукин, 2005. C. 495].
Казачьи вожди имели и личные претензии к верховной власти. Г. М. Семенов был оскорблен обвинением его в измене. А. И. Дутов считал, что его отозвали от командования Оренбургской армией вследствие интриг в Ставке, а свое назначение на фиктивную должность генерал-инспектора кавалерии называл «прямым оскорблени-ем»15. Сильно задела атамана оренбуржцев газетная критика в его адрес, причастным к которой оказался предсовмина П. В. Вологодский [Ганин, 2008. C. 21–22]. Впрочем, Дутов получил почетный, ставивший его над Семеновым, пост Походного атамана всех казачьих войск, специально реанимированный, чтобы реально подчинить дальневосточных атаманов и двинуть их строевые части на фронт. С этой целью Дутов и совершил летом 1919 г. поездку по Дальнему Востоку. П. П. Иванов-Ринов, отказавшийся от балансирования между иностранными силами и попытавшийся проводить на Дальнем Востоке «твердый» курс с опорой на японцев, атаманов и репрессии, в мае 1919 г. по настоянию американцев поплатился должностью [Сукин, 2005. C. 462–467]. Вернувшийся 4 июня в Омск, атаман сибирцев, человек честолюбивый и склонный к интригам, «был озлоблен и искал случая снова выдвинуться». Из всех войсковых атаманов он причинил Омскому правительству «больше всего забот» [Там же. C. 462, 500]. На 5-м круге Сибирского войска представитель Общеказачьего совещания И. Н. Шенд-риков прямо вопрошал: «Почему генералы Дутов, Иванов-Ринов и Гайда в загоне?» 16.
Сибиряки были недовольны тем, что оттеснены на второй план и что правительство, став всероссийским, забросило местные дела. Потом в эмиграции казаки-областники говорили об этом весьма резко. Сибирец А. Г. Грызов считал, что приезжие интеллигенты «провалили при А. В. Колчаке Сибирское дело, т. к. повели его в Великороссийском московском плане» 17 . «Мы, сибиряки, – писал енисеец И. К. Окулич, – неоднократно указывали, что ни о каком отделении от России мы не думаем, считаем себя русскими людьми, самостийничеству не сочувствуем, но определенно желаем быть хозяевами у себя на родине – в Сибири» [Шиловский, 2001. C. 51].
В мае – июле 1919 г. казаки участвовали в попытке оживить право-областническое движение и повлиять на верховную власть. 17 июня в Омский окружной суд было подано прошение о регистрации «Общества сибиряков-областников». Из 10 учредителей пятеро были казаками: исследователь Урян- хайского края Генштаба генерал-майор в отставке В. Л. Попов, заместитель председателя Войсковой управы Сибирского войска войсковой старшина в отставке А. Г. Гры-зов, отставной казачий офицер и публицист Е. Ф. Баранов, представители своих войск в Общеказачьем совещании присяжный поверенный И. Н. Шендриков (Семиреченского) и хорунжий С. М. Мелентьев (Иркутско-го)18. 20 июня в Омске на заседании, посвященном 25-летию кончины Н. М. Ядринце-ва, И. Н. Шендриков огласил «Декларацию сибиряков-областников». В числе 16 человек, ее подписавших, был и редактор еженедельника «Иртыш» полковник А. Д. Баженов. Вот почему в войсковом органе сибирцев в течение марта – июля почти в каждом номере печатались материалы о сибирском областничестве. Шестого июля декларация была опубликована в «Иртыше», а 10 – отдельным оттиском в типографии Сибирского войска 19.
В декларации предлагалось, не дожидаясь созыва Всероссийского Национального Учредительного собрания, немедленно приступить к устройству освобожденных от большевиков областей. Областники находили своевременным создать законосовещательный орган для всей России, а в Сибири – областное управление с законосовещательным органом по местным вопросам, и срочно приступить к земельно-правовым преобразованиям: к «установлению и защите земельных прав старожилов-крестьян, казаков и инородцев» и к хозяйственному устройству переселенцев.
Инициаторы акции принадлежали к правому, либерально-демократическому, крылу областников и стремились к сотрудничеству с властью. Из учредителей-казаков только Мелентьев, секретарь Общеказачьего совещания, мог иметь отношение к социалистам (в 1917 г. член Иркутского военно-окружного комитета). У Шендрикова социалистические увлечения были в прошлом, а в 1919 г. он возглавлял Акмолинский отдел Всероссийского Национального союза 20 . «Инициативная группа сибиряков-областников» так и не превратилась в действующее «Общество». Показательно, что в публичное судебное заседание, рассматривавшее 27
июня вопрос о регистрации, никто из учредителей не явился 21 . Обратив на себя внимание, лидеры группы были затем «утилизированы» режимом. Председатель временного бюро учредителей генерал В. Л. Попов 15 июля был назначен главным начальником Усинско-Урянхайского края, а в конце августа 1919 г. 6-м чрезвычайным кругом енисейских казаков избран их войсковым атаманом.
Включилось казачество и в работу реформированного Государственного экономического совещания, в котором было предоставлено по одному месту четырем крупнейшим войскам: Уральскому, Оренбургскому, Сибирскому и Забайкальскому. Впрочем, малые войска остались недовольны: их проигнорировали, а сельскохозяйственному обществу, например, предоставили целых два места. Общеказачье совещание ходатайствовало дать казакам еще три места 22 .
Государственное экономическое совещание не явилось смычкой между властью и обществом в решении хозяйственных проблем. С началом военных неудач общественность стала «бить тревогу и призывать к спасению». На частных заседаниях членов совещания «быстро выросли начала резкой оппозиции правительству»: и левые, и правые считали, что нужно менять режим [Сукин, 2005. C. 486–488]. В Омском блоке общественно-политических организаций, в который входили и казаки (представители Сибирского, Семиреченского, Иркутского, Забайкальского войск), начали муссировать идею создания представительного законосовещательного органа. В Государственном экономическом совещании оппозиция неудачно пыталась провести политическую резолюцию с таким требованием, а также с идеями «ответственного солидарного правительства» и ограничения произвола военных. В июле Омский блок затеял, по выражению В. Н. Пепеляева, «вредную общественную свистопляску»: кампанию за смещение предсовмина П. В. Вологодского и за обновление Совмина [Пепеляев, 1990. C. 90, 98, 89]. В числе принятых 20 июля Колчаком пяти представителей блока был и семирек И. Н. Шендриков 23 . Введение казачества в Государственное экономическое совещание
«лишь усилило склонность последнего к политиканству» [Сукин, 2005. C. 487].
Сословная обособленность казачьих войск, несомненно, усложняла систему управления страной и армией. Но верховной власти приходилось считаться с ней, так как казаки действительно сражались на внешних и внутренних фронтах, неся большие людские и материальные потери. В январе 1919 г. казачество потеряло два войсковых центра, Оренбург и Уральск, и, несмотря на многомесячные усилия и жертвы, так и не смогло их вернуть, главным образом, по причине нехватки артиллерии и боеприпасов. Острый дефицит оружия и обмундирования не позволял проводить казачьи мобилизации своевременно. У казаков было много оснований резко критиковать власть за плохое снабжение, беспорядки в управлении и сдачу врагу станиц.
Посредничество казачества в урегулировании конфликта между Омском и Читой, уступки Колчака Семенову, сохранение в Чите автономного властного центра с самостоятельной внешнеполитической ориентацией, проведение атаманами «казачьего гегемонизма» [Савченко, 1999. C. 67] на Дальнем Востоке, – все это бумерангом било по верховной власти, поднимая в Омске политический вес и самооценку казаков. Приехавший в Общеказачье совещание представитель Уссурийского войска полковник К. М. Бирюков сразу же поставил вопрос о создании в Омске «центрального органа казачества» 24 .
Примирение Колчака и Семенова совпало с началом поражений на фронте. И верховная власть, и белая общественность принялись искать эффективную схему управления, социальную поддержку и, главное, военные резервы. Взоры обратились на казачество как военно-служилое сословие и более-менее благонадежную группу населения. Поднялось значение армии, в ущерб гражданской власти. «Потеряв свой авторитет, Совет министров незаметно уступил его военным, окружившим Верховного Правителя тесным кольцом»; «посыпался ряд мероприятий, продиктованных уже не правительством, а все усиливающимся влиянием казачества и генералов» [Сукин, 2005. C. 494, 474].
Оказавшись втянуты в Омске в дискуссии о средствах спасения белого режима, казачьи деятели приступили к выработке общеказачьей солидарной платформы. И сразу же обнаружилась их политическая двойственность. В Государственном экономическом совещании казаки тесно контактировали и с правыми, и с левыми силами. С одной стороны, они вместе с правыми выступали за усиление дискреционной власти Верховного правителя, т. е. его права действовать по личному усмотрению, за уменьшение полномочий Совмина (это «мнение о необходимости закрепления начал единоличного суверенитета» было высказано в обращении Общеказачьего совещания к Колчаку от 12 июня 1919 г. 25 ). Но с другой стороны, казаки «одновременно выражали готовность присоединить свой голос и к требованиям левого крыла», выдвигавшего идею создания нового кабинета министров, ответственного перед представительным органом: либо уже существующим Государственным экономическим совещанием, либо Земским собором, выборы в который предлагалось провести [Там же. C. 488]. Эта разносторонность контактов скажется потом при разработке казаками своей «схемы высшего управления» и политической декларации Чрезвычайного съезда девяти казачьих войск от 28 августа 1919 г.
Казачьи деятели видели узость социальной базы режима и пытались помочь ему «нащупать почву». Декларация правых областников от 20 июня 1919 г., по сути, предлагала через децентрализацию и развитие «самодеятельности местных сил» наладить эффективное областное самоуправление, сплотить вокруг него, благодаря областнической идее и удовлетворению насущных нужд, русских старожилов и инородцев и тем самым подвести под верховную власть в Сибири широкую и прочную опору.
Целый комплекс объективных и субъективных причин и обстоятельств обусловил усиление весной и особенно летом 1919 г. политической активности казачества и повышение его роли в Белом движении Востока России. Казачье влияние достигнет своего пика в конце августа, когда казаки даже попытаются оказать давление на Верховного правителя, и стремительно упадет в сен- тябре в связи с провалом «рейда на Курган» и общим разочарованием в «казачьей силе».
«WE… WANT TO BE MASTERS IN OUR HOMELAND – IN SIBERIA»:
ABOUT THE COSSACKS’ POLITICAL SIGNIFICANCE ISSUE IN SPRING – SUMMER 1919