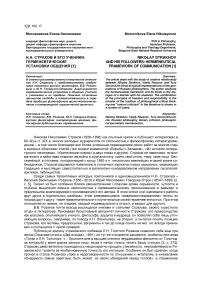Н. Н страхов и его ученики: герменевтические установки общения
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются творческие отношения Н.Н. Страхова с представителями следующего поколения русских философов, В.В. Розановым и Ю.Н. Говорухой-Отроком. Анализируются герменевтические установки в общении учителя с учениками и их пределы. Показано сочетание принципов свободы и ответственности в передаче традиции философского критического мышления и литературной «органической критики».
Н.н. страхов, в.в. розанов, ю.н. говоруха-отрок, русская философия, литературная критика, философская публицистика, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14937014
IDR: 14937014 | УДК: 165.17
Текст научной статьи Н. Н страхов и его ученики: герменевтические установки общения
Николай Николаевич Страхов (1828–1896) как опытный критик и публицист интересовал в 80–90-е гг. XIX в. многих молодых журналистов со склонностью к философскому литературоведению – в том числе благодаря все более успешным переизданиям своих работ за многие годы в книжных сборниках статей (три книжки знаменитой «Борьбы с Западом», «Из истории литературного нигилизма», «Критические очерки» в двух томах и другие). Страхов не навязчиво, но внимательно и заботливо помогал им войти в журналистику, найти свой стиль, тему, свое лицо. Бессемейный, в отставке, похоронивший к концу 1880-х гг. нескольких важнейших в своей жизни собеседников, Страхов радовался появлению в столичных журналах новых серьезных, уважающих традицию и мыслящих самостоятельно в религиозно-консервативном направлении писателей, критиков, публицистов.
Среди самых талантливых молодых поклонников и единомышленников Н.Н. Страхова – Василий Васильевич Розанов (1856–1919) и Юрий Николаевич Говоруха-Отрок (1854?–1896) [2, c. 5]. Талант их был особенно близок умонастроению Страхова кроме серьезности, чуткости и глубины мышления именно наклонностью к герменевтическому проникновению в замысел и предпосылки анализируемого произведения и его автора. В этом ключе они оценивали и работы друг друга в журнальных разборах, этим развивающимся «взаимоисследованием» полны их письма друг к другу, такие привлекательные и поучительные своей герменевтичностью. При этом отношения их живые, не гладкие, каждый индивидуально и открыт, и закрыт для другого.
В.В. Розанов почти всегда восхищался книгами и статьями Страхова, своего «крестного отца» в литературе. Признавая безусловный авторитет личности Страхова, его превосходство как классика, опытнейшего ученого, философа, эрудита и мудреца, он позволял себе лишь уточняющие вопросы, (например, по поводу К.Н. Леонтьева), не спорил, а пытался понять позицию Страхова, его мотивы, предпосылки, аргументы и так до конца понять не мог, но всегда признавал и соглашался с чужой правдой.
Публичную критику страховского любимца Л.Н. Толстого Розанов позволил себе еще при жизни Страхова (статья «Два исхода», 1891), но тут же и искренне раскаялся, особенно прочитав «Толки о Л.Н. Толстом»: «…Простите мне в высшей степени неудавшийся фельетон от Толстом, за кот[орый] у меня краска залила лицо, когда я начал только читать Вашу статью» [3, с. 275]. Страхову действительно приходилось неоднократно прощать стихийность, неуправляемость Розановского таланта за необыкновенную точность его интуиции. Особенно он был удивлен, когда прочел в статье Розанова упрек в недоговоренности по отношению к читателям, в «нежелании обнаружить самые заветные, быть может, из своих убеждений перед толпой», в стремлении
«быть непременно только разумным, всегда правильным, размеренным, добродетельным» [4, c. 104–105]. Удивительное состояло в том, что подобные же предложения «рассказывать себя, выйти перед читателем без мундира и без орденов» неоднократно высказывал Л.Н. Толстой, обладавший высочайшим для Страхова нравственным и писательским авторитетом. Совпадение мнений столь несхожих между собой своих почитателей заставило Страхова «прилежно думать» над этим, и в итоге он пишет Толстому одно из самых своих длинных исповедальных писем, в котором старательно и подробно разъясняет невозможность выполнить пожелание. «Ведь моя объективность и есть выражение моего ума, моей натуры [5, c. 909]. <…> Рассказывать эту постоянную борьбу, иногда очень горькую и противную, я считаю вовсе не нужным, не нахожу ее для самого себя занимательною [6, c. 910]. <…> А что я не высказываюсь до конца, то ведь потому, что это гораздо труднее, чем полагают те, кто этого требует» [7, c. 911].
В письме к Розанову, написанном чуть позже, Страхов уже ни в какие объяснения не вдается, пишет только: «Мне показалось странным выражение пленка благоразумия , но я очень хорошо понял, что Вы хотели сказать. Все-таки за указание моих недостатков я Вам благодарен – Вы правы, хотя я смотрю на дело несколько иначе» [8, с. 111–112]. Издавая письма Страхова в 1913 г., Розанов написал в комментарии к «пленке благоразумия»: «…упрек или полу-упрек молодой и неопытный. Кто без “пленки благоразумия” проживет, если он не свободен, если вступает в многоразличные с людьми связи и отношения <…>. Таким образом, невозможно за “пленку благоразумия” упрекать человека, как горло и легкие нельзя упрекать, если они кашляют от пыли, – и нельзя упрекать вообще существо человека за его болезни и слабость» [9, с. 111]. Переписка Толстого и Страхова была опубликована в следующем, 1914 г., но в нее не попало цитированное письмо, в котором зрелый Розанов мог бы прочесть подтверждение правильности своего позднего понимания страховской сдержанности, органической чуждости для него экзистенциального стиля письма. Вряд ли они могли вполне понять друг друга в 1892 г.
Н.Н. Страхов высоко ценил критические статьи Ю.Н. Говорухи-Отрока, для которого сам был одним из главных людей в жизни, поскольку непосредственно представлял в своем лице и «Время» и «Эпоху» Ф.М. Достоевского, и «органическую критику» Ап. Григорьева, и теорию культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского – всех тех, кто внес основной вклад в перевоспитание бывшего народника-революционера в православного консерватора. Благодаря личному знакомству и общению со Страховым Говоруха-Отрок углубился и в философию [10].
Ю.Н. Говоруха-Отрок с 1889 г. вел постоянную рубрику «Литературные заметки» в газете «Московские ведомости», в которой он опубликовал несколько статей, посвященных книгам Страхова, и после его смерти успел трижды посвятить рубрику Страхову: некролог 27 января, большой очерк 1 февраля и 20 июня, за месяц до своей смерти, – рецензию на первую биографию философа, критико-биографический очерк о Страхове Б.В. Никольского (1870–1919), еще одного его молодого почитателя из когорты переболевших левизной консервативных литераторов [11].
Став консервативным православным монархистом, Говоруха-Отрок тонко чувствовал неортодоксальность страховских текстов, его умную ересь, на которую указывал так же тонко и умно. «Можно в ином не соглашаться с почтенным автором, но мысль его всегда ясна и понятна, так что спор с ним сам собою принимает правильное течение и потому служит лишь к большему выяснению дела» [12, с. 291], – писал он в 1892 г. по поводу религиозно-нравственной концепции, изложенной Страховым в статье «Справедливость, милосердие и святость». Что же Говоруха-Отрок находит спорным у Страхова, выделяющего три ступени нравственного совершенствования личности? «Главное дело в том, что хотя доброта сердца, милосердие, любовь к ближним свойственны даже и поврежденной природе человеческой, но для этой поврежденной природы они не имеют принудительной силы» [13, c. 293]. Соглашаясь с автором в том, что совершенство святости состоит в свободе от всякого страха, кроме Бога и совести, Говоруха-Отрок настаивает, что «без веры невозможен страх Божий, без него невозможны ни любовь, ни святость…» [14, c. 299].
Еще более показательна герменевтическая чуткость Говорухи-Отрока в его трактовке смысла страховских «Воспоминаний о поездке на Афон». Перед первой журнальной публикацией этого очерка в 1890 г. Страхов писал Толстому, что замысел его «в сущности, есть маленькая защита монашеской жизни» [15, с. 390]. А после сожалел, что его апология монашества наивно принята читателями за исповедание православия: «…Мне было очень совестно, когда Александра Андреевна [16] и разные другие благочестивые люди причисляли меня к своим. Перед Ал. Андр. я прямо отрекся: “нет, графиня, я нигде не выразил, что я верующий”. – Чувствовал я, что Поездка Вам не может понравиться; но как из церковно-верующих никто (впрочем, кроме Ольги Александровны [17]) не заметил, что Поездку писал не верующий?» [18, c. 405]. Когда же в 1892 г. Страхов включил «Поездку на Афон» в сборник «Воспоминания и отрывки», Ю. Николаев (псевдоним Говорухи-Отрока) в своей рецензии на книжку выбрал для подробного рассмотрения именно этот очерк и назвал статью недвусмысленно: «Мнение светского писателя о монашестве». Изучив мотивы путешествия, он одобрил их: «Если народ наш паломничает на Святую гору, пусть наши образованные люди пока хотя только изучают Афон. И это уже будет шагом вперед» [19, с. 305].
Ю. Николаев усиливает мысль Страхова о том, что мирским людям жизнь монахов часто представляется путем мучительных лишений – как будто удовлетворение плотских потребностей действительно составляет главную радость жизни. Приводит Ю. Николаев и итоговое впечатление путешественника – признание, что воспоминания о пребывании на Афоне вызывают умиление и «то чувство, которое так ярко горит на Афоне, – жажду молитвы» [20, c. 311]. В тоне и построении всего этого изложения критик сохраняет ощущение дистанцированности автора («светского писателя») от афонской монашеской жизни, его позицию внимательного и чуткого наблюдателя, проникающего в чужую жизнь, но не паломника, «жажду молитвы», но не молитву. «Вот какое впечатление от соприкосновения с Афоном вынес один из образованнейших русских людей…» [21, c. 311], – заканчивает Ю. Николаев свой очерк. Похоже на то, что Говоруха-Отрок лучше многих распознал религиозную проблему Н.Н. Страхова, помешавшую органичному слиянию его скептического духа с духом Святой горы.
Ю.Н. Говоруха-Отрок и В.В. Розанов много спорили между собой, обнаруживая сходства и противоречия в понимании литературных явлений; на почве спора они и познакомились по переписке, а затем и лично, и подружились. «Я очень рад, что случай дает мне возможность хотя письменно вступить с Вами в непосредственные отношения. Из моих статей Вы, вероятно, уже заметили, что Ваши работы возбуждают во мне живейший интерес. У нас с Вами много точек соприкосновения и даже, в сущности, одна общая идея, из которой мы оба исходим; но о Гоголе – конечно, мы стоим на разных концах, хотя, возможно, кончим тем, что и здесь сойдемся…», – приветливо писал Говоруха-Отрок из Москвы в Елец Розанову [22, с. 440].
В этом споре о Гоголе Розанов просил быть судьей Страхова: «Если б Вы мне написали – угадал ли я? <…> Очень, очень верю я, что разобрал внутренность Гоголя верно. “Вот, это сам Бог дал мне дар по читаемому разгадывать душу пишущего” (Вы мне так писали и говорили), сказал я, посылая статью в “Московские ведомости”, и на разгадку Гоголя, такого великого и могущественного писателя – смотрел как на указание свыше» [23, c. 262–263]. И Говоруха-Отрок тоже апеллировал к авторитету Страхова: «По поводу нашего спора о Гоголе Страхов мне пишет: “У Гоголя взгляд зрелого, крепкого, строгого человека без нежничанья и малодушной сантиментальности”. Подумайте над этим» [24, с. 451], – призывает он Розанова.
Интересно, что в этом «треугольнике» Розанов воспринимал и вспоминал через многие годы Говоруху-Отрока не как своего ровесника, а отчего-то относил его к «отцам», к поколению Страхова и Толстого. Говоруха – «больше наш, чем великолепный и ученый Страхов, хотя он и не так солиден и надежен» – сравнивал он их образы в 1913 г. [25, с. 443]. А в примечании к фрагменту письма, в котором Говоруха-Отрок высказывал намерение написать монографию о Гоголе, Розанов еще более конкретен в обосновании своего недоверия к этому замыслу, даже ретроспективно: «Едва ли бы что-нибудь вышло из этой “монографии”, самой фактической, самой подробной, если бы ее написал умный и талантливый, но “все же человек 60-х и 70-х годов”, Говоруха-Отрок. “ Не убо прииде час…”. Всякому сроку историческому своя мера понимания . Еще не раскрылось ухо для Гоголя, не разверзлось обоняние для его тайн… И Чернышевский, и Добролюбов, и теперь Овсянико-Куликовский, и раньше Страхов или Говоруха-Отрок – разве не искренни были в уразумении Гоголя как “великого реалиста” и как бесстрашного “гражданина- обличителя” и “христианина- проповедника” …» [26, с. 440–441].
А ведь Ю.Н. Говоруха-Отрок старше В.В. Розанова всего на несколько лет. Отчего же он казался ему таким «старым»? Почему был помещен в круг людей, с которыми – Розанов об этом писал еще в некрологе 1896 г. – у Говорухи-Отрока было так мало общего: «В его писаниях общество, его судьба, тревога об его будущем не занимают никакого места… Он весь был погружен в то единственное, что в истории, в народе можно было созерцать под углом вечности в человеке. <…> Человек, его лицо, его сердце, и никогда “человечество” 60-х годов – его занимало. И в этом он представляет собою заметное и ценное звено перехода тех лет в нечто новое и противоположное» [27, с. 463].
Если Н.Н. Страхов на пороге семидесятилетия понимал, что его время в журналистике закончилось и все больше уединялся в своих философских занятиях, если сорокалетний В.В. Розанов, напротив, был на пороге выхода на новый виток творчества, «в нечто новое и противоположное», то судьба Н.Ю. Говорухи-Отрока оборвалась внезапно, перечеркнув его замыслы развития традиций «органической критики» в новом веке. Несмотря на столь различные мировоззрения, исторические и литературные судьбы, Страхов, Говоруха-Отрок и Розанов представляют единое направление, надолго забытое в ХХ в., почти не известное широким кругам специалистов, не говоря уже о публике. Интерес к нему, однако, уже возродился и растет, обещая немало новых открытий в истории русской мысли и слова.
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект № 13–03–00336 «Концептуальный каркас культурно-исторической эпистемологии и современные тенденции в методологии гуманитарных исследований».
-
2. Каплин А.Д., Гончарова О.А. Предисловие // Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея. М., 2015. С. 5–26.
-
3. Переписка В.В. Розанова с Н.Н. Страховым // Розанов В.В. Собрание сочинений. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 5–315.
-
4. Идея рационального естествознания // Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913. С. 65–106.
-
5. Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхов: полное собрание переписки : в 2 т. Т. 2. М., 2003.
-
6. Там же.
-
7. Там же.
-
8. Переписка В.В. Розанова с Н.Н. Страховым.
-
9. Там же.
-
10. См.: Каплин А.Д., Гончарова О.А. Указ. соч. С. 19–20.
-
11. Никольский Б.В. Н.Н. Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896.
-
12. Говоруха-Отрок Ю.Н. Любовь и страх. (По поводу статьи Н.Н. Страхова «Справедливость, милосердие и святость») //
-
13. Там же.
-
14. Там же.
-
15. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894. СПб., 1914.
-
16. Графиня А.А. Толстая, тетка Л.Н. Толстого.
-
17. Данилевская, вдова Н.Я. Данилевского.
-
18. Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894.
-
19. Говоруха-Отрок Ю.Н. Мнение светского писателя о монашестве (Н. Страхов. Воспоминания и отрывки) // Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея. С. 299–311.
-
20. Там же.
-
21. Там же.
-
22. Ю.Н. Говоруха-Отрок в нескольких письмах // Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. С. 437–454.
-
23. Переписка В.В. Розанова с Н.Н. Страховым.
-
24. Ю.Н. Говоруха-Отрок в нескольких письмах.
-
25. Там же.
-
26. Там же.
-
27. Розанов В.В. Вечная память. 24 января – 27 июля 1896 г. // Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. С. 455–531.
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея. С. 289–298
Список литературы Н. Н страхов и его ученики: герменевтические установки общения
- Каплин А.Д., Гончарова О.А. Предисловие//Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея. М., 2015. С. 5-26.
- Переписка В.В. Розанова с Н.Н. Страховым//Розанов В.В. Собрание сочинений. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 5-315.
- Идея рационального естествознания//Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913. С. 65-106.
- Л.Н. Толстой -Н.Н. Страхов: полное собрание переписки: в 2 т. Т. 2. М., 2003.
- Никольский Б.В. Н.Н. Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896.
- Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870-1894. СПб., 1914.
- Розанов В.В. Вечная память. 24 января -27 июля 1896 г.//Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. С. 455-531.