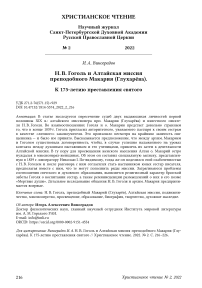Н. В. Гоголь и алтайская миссия преподобного Макария (Глухарёва). К 175-летию преставления святого
Автор: Виноградов Игорь Алексеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется пересечение судеб двух выдающихся личностей первой половины XIX в.: алтайского миссионера прп. Макария (Глухарёва) и известного писателя Н. В. Гоголя. Во взаимоотношениях Гоголя и о. Макария предстает довольно странным то, что в конце 1839 г. Гоголь пригласил авторитетного, уважаемого пастыря к своим сестрам в качестве «личного» законоучителя. Это произошло несмотря на крайнюю занятость священника - и было им принято. Высказывается предположение, что между архим. Макарием и Гоголем существовала договоренность, чтобы, в случае успешно налаженного на уроках контакта между духовным наставником и его ученицами, привлечь их затем к деятельности Алтайской миссии. В ту пору для просвещения женского населения Алтая о. Макарий остро нуждался в миссионерах-женщинах. Об этом он составил специальную записку, представленную в 1839 г. императору Николаю I. По-видимому, тогда же он поделился этой озабоченностью с Н. В. Гоголем и после разговора с ним согласился стать наставником юных сестер писателя, предполагая вместе с ним, что те могут пополнить ряды миссии. Затрагиваются проблемы соотношения светского и духовного образования, выявляется религиозный характер братской заботы Гоголя о воспитании сестер, а также реминисценции размышлений о них в его поэме «Мертвые души». Детальное исследование общения Н. В. Гоголя и архим. Макария предприни- мается впервые.
Н. в. гоголь, преподобный макарий (глухарёв), алтайская миссия, подвижничество, миссионерство, просвещение, образование, биография, творчество, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/140293639
IDR: 140293639 | УДК: 271.2-76(571.15)+929
Текст научной статьи Н. В. Гоголь и алтайская миссия преподобного Макария (Глухарёва). К 175-летию преставления святого
Н. В. Гоголь (1809-1852), православный художник и мыслитель, предки которого были священниками, за свою жизнь удостоился общения с людьми, из которых впоследствии по крайней мере семеро были прославлены в лике святых. Этим общением писатель еще раз подтвердил правоту слов св. пророка Давида: «С преподобным преподобен будеши… И со избранным избран будеши…» (Пс 17:26–27). Среди современников-святых, с которыми встречался Гоголь, — свтт. Иннокентий Херсонский, Филарет Московский, Феофан Затворник, прпп. Макарий и Моисей Оптинские, Антоний Радонежский и, наконец, Макарий Алтайский, малоизученному общению которого с Гоголем посвящена настоящая работа. Преподобный Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарёв, 1792–1847), известный миссионер Алтая, в соборе Костромских святых был прославлен уже сорок лет назад, в 1981 г.; общецерковно канонизирован в 2000 г.
Преподобный Макарий был пострижен в монашество в 1818 г.; он подвизался в разное время в нескольких монастырях: был настоятелем костромского Богоявленско-Анастасиина монастыря (и одновременно ректором Костромской семинарии); встречался с прп. Серафимом Саровским; бывал в Оптиной пустыни и Киево-Печерской лавре, проживал в Китаевском киевском Троицком монастыре. После Алтая был назначен настоятелем Болховского Троицкого Оптина монастыря Орловской епархии, где и скончался. Перу архим. Макария принадлежит сочинение «Мысли об улучшении общественного воспитания в духовном звании» (1828), где предлагался проект нового образовательного учреждения монастырского типа. Проект был одобрен свт. Филаретом Московским. Помимо переводческой деятельности, писал также стихи и канты духовного содержания [Пивоваров и др., 2016].
К тому времени, когда с о. Макарием познакомился Гоголь, за его плечами был уже богатый опыт образования и крещения народов обширного края России — Алтая (за что, собственно, он и был прославлен как Макарий Алтайский). Пути Гоголя и алтайского миссионера пересеклись в конце 1839 г. в Москве, где временно проживал о. Макарий и куда Гоголь привез своих сестер Анну (1821–1893) и Елисавету (1824–1864), которые только что вышли из петербургского Патриотического института благородных девиц. Именно как к известному специалисту, не понаслышке знакомому с проблемами образования, и обратился Гоголь к архим. Макарию, обеспокоенный тогда неудовлетворительным, как он считал, воспитанием своих сестер в петербургском институте.
В свое время, в 1830-х гг., Н. В. Гоголь сам на протяжении пяти лет был преподавателем этого института [Виноградов, 2017-2018, т. 2, 91-93, 413-414] — и, в свою очередь, был хорошо знаком с преподавательской практикой того времени. Достаточно напомнить известные его строки в «Мертвых душах» о женских пансионах, к числу которых относился и Патриотический институт (это был закрытый женский пансион с программой гимназий): «Хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов» (Гоголь, 2009–2010, т. 5, 26–27).
В 1836 г. Петр Александрович Плетнев, благодаря которому Н. В. Гоголь получил место в Патриотическом институте, в первом номере пушкинско- гоголевского «Современника» писал: «Устройство заведений для образования женского пола ни в чем не требует улучшения. Поверхностные только судьи, не входящие в подробности этого дела, не умеющие обнять его со всех сторон, могут оставаться при своем сомнении» [Плетнев, 1836, 7].
На практике, однако, выходило не совсем так, как утверждал Плетнев. Гоголь был реалистом и, полемизируя с Плетневым, не преминул отметить недостатки пансионного воспитания в своей поэме. А основания для неутешительных выводов он с очевидностью почерпнул из личных наблюдений над воспитанницами института, в первую очередь над своими сестрами.
Еще в 1833 г. в письме к матери он замечал о сестре Елисавете: «У ней <…> нет никакого сердца, ни доброго, ни злого… <…> За пустую игрушку она забывает все на свете» (Гоголь, 2009-2010, т. 10, 225). Отсюда берет свое начало гоголевская характеристика «мертвой души», которая представляет собой теплохладное «ни то, ни се», ни доброе, ни злое [Виноградов, 2017–2018, т. 2, 18–19, 257–258]. Спустя 20 лет после смерти Гоголя другая его сестра — Анна, вспоминая о том времени, когда они с сестрой покинули институт, рассказывала о характере брата одной из своих знакомых, С. Г. Гетекомер. Та с ее слов записала: «Гоголь терпеть не мог кокетства и светской мишуры. По окончании института сестры его начали выезжать, и вот однажды им для первого бала были сшиты бальные платья. Как и для всех молодых девушек, только что расставшихся с институтом, этот случай был для них праздником, а по тем временам, пожалуй, и целым событием. Оживленные разговоры в доме о нарядах и об ожидаемом вечере не прекращались, и присутствовавший при них Гоголь не переставал возмущаться пустотою и легкомыслием своих сестер. Ему все это до того, наконец, надоело, что он добыл ножницы, и если бы сестры вовремя не скрылись, то бальные костюмы на них оказались бы, наверно, в самом жалком виде. После этого случая сестры стали осторожнее со своим братом» [Виноградов, 2017–2018, т. 2, 375]. Ранее, в письме к В. С. Аксаковой от 24 марта 1853 г., Анна Васильевна, вспоминая об этом же случае, добавляла, что спасти свое платье ей удалось лишь тем, что она «легла на него» [Виноградов, 2017–2018, т. 2, 375].
Следует со всей определенностью подчеркнуть, что в гоголевском «устрашающем» сестер внушении «религиозной нетерпимости» не было. Именно Гоголь, всегда с любовью и вниманием относившийся к сестрам, и покупал, с братской заботливостью, на свои деньги все их наряды и платья. Сам, со списком вещей и украшений, ездил по магазинам и выбирал для них всю необходимую, как он говорил, «экипировку» [Виноградов, 2001, 507], вплоть до рубах, булавок, шпилек и пр. (Гоголь, 2009–2010, т. 9, 484) (из института подросшие Анна и Елисавета вышли только в гимназических платьях).
Однако случай с сестрами, их увлеченное обсуждение бальных нарядов и развлечений, с очевидностью отозвался опять-таки в «Мертвых душах» — в содержании комического диалога двух дам о нарядах в девятой главе поэмы: «„Да, поздравляю вас: оборок больше не носят. <...> На место их фестончики'1. — „Как фестончики?11 — „Фестончики, всё фестончики, и сзади фестончики, и на рукавах фестончики, и вокруг плеч фестончики, и внизу фестончики, везде фестончики“» [Гоголь, 1951, 494–495]. Этот диалог появился в сохранившейся черновой редакции поэмы именно в период тесного общения Гоголя с сестрами в 1840 г.
Неудивительно, что сразу по приезде в Москву Гоголь постарался вплотную заняться воспитанием сестер, считая их духовный уровень недостаточным. Потому-то он и пригласил к сестрам для новых уроков архим. Макария (Глухарёва). Об этом Гоголь писал матери в Васильевку: «Я им доставил общество не шумное и рассеянное, но тихое и приятное, которое бы действовало на их нравственность. К счастию моему, сюда приехал архимандрит Макарий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью к вере. Я просил его, и он [был] так добр, что, несмотря на неименье времени и кучу дел, приезжает к нам и научает сестер моих великим истинам христианским. Я сам по нескольким часам останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил» (Гоголь, 2009–2010, т. 11, 283; письмо от 25 января 1840 г.).
Судя, однако, по воспоминаниям одной из сестер Гоголя, Елисаветы (пожалуй, в то время наиболее легкомысленной из них), уроки архим. Макария не произвели на нее столь же глубокого впечатления, как на брата. Спустя много лет Елисавета Васильевна о беседах о. Макария вспоминала не без доли иронии, причем сообщала, вопреки словам брата, что «миссионер» (имя которого она запамятовала) приходил к ним будто бы только два раза — что едва ли соответствует действительности. Факты свидетельствуют, что их общение продолжалось более двух месяцев, с конца декабря 1839 г. до начала марта 1840 г. В конце жизни Елисавета Васильевна вспоминала: «К нам два раза приходил миссионер, приехавший издалека и всеми уважаемый в Москве. Он приезжал искать себе спутников или спутниц, чтобы проповедовать христианскую веру. Брат его просил быть у нас и наставить нас на путь истинный; нам очень не нравилось это, но что же делать, надо было повиноваться — сидеть с наклоненными головами и говорить про себя: „помилуй мя, Боже!“; он же по слабости и старости (о. Макарию в то время на самом деле было только сорок семь лет. — И.В.) засыпал и забывал об нас, у нас же шеи разболелись, и я, видя, что он уснул, подняла голову. Анет (т.е. сестра Анна. — И.В.) потихоньку взглянула на меня, и мы расхохотались, что его пробудило; а может, он так был прогружен в духовные мысли. Он нам говорит: „Ничего, соблазнил лукавый, продолжайте опять, нагните головки“. Наконец у нас начали болеть затылки и виски, <и> мы расплакались. Он приписал это умилению и везде расхваливал нас, так что раз за нами прислана была зимняя карета от какой-то дамы Глебовой…» [Виноградов, 2017–2018, т. 2, 395].
Далее Елисавета Васильевна рассказывала о своем визите с сестрой в известное в Москве семейство Глебовых-Стрешневых, проживавших на Большой Никитской. (Этот московский дом, где побывали сестры Гоголя, сохранился; в нем размещается теперь «Геликон-опера».) Устроителем встречи была известная в Москве своей набожностью и благотворительностью Прасковья Петровна Глебова-Стрешнева. Уезжая в 1840 г. на Алтай, о. Макарий поручил ей сбор и хранение денег для Алтайской миссии. (Впоследствии, в 1847 г., П. П. Глебова-Стрешнева вышла замуж за монаха-расстригу Федора Федоровича Томашевского, ставшего купцом, и уехала с ним в Тулу, где умерла в 1857 г.)
-
Н. В. Гоголь с Прасковьей Петровной Глебовой-Стрешневой знаком не был и потому отклонил приглашение, — «нам же, — продолжала Елисавета Васильевна, — сказал ехать, и нам ужасно не хотелось ехать, но нечего делать, надо было послушаться»: «Нас лишь занимало знать, куда нас везут, кто эта дама, хорош ли у нее дом, — „судя по экипажу, должно быть, богатая, чудесная карета с форейтором и человек в богатой ливрее“, — наконец, подъезжаем к двухэтажному дому, человек указывает нам, куда идти, входим в гостиную, где сидят несколько дам-старушек, и между ними О[тец] Макарий читает вслух Евангелие. Одна из старушек подошла к нам, <…> указала нам места, и чтение продолжалось. Для нас это был большой шаг — в первый раз выехать одним в незнакомое общество, когда мы были так застенчивы и так молоды. <...> После мы узнали, что О[тец] Макарий нас <...> расхвалил, что мы плакали от умиления <…> при его чтении» [Виноградов, 2017–2018, т. 2, 395–396].
Как это ни удивительно, но сохранилось сразу три письма самого архим. Макария об этом визите (в литературе о Гоголе эти письма оставались до настоящего времени невостребованными). 9 января 1840 г. он писал П. П. Глебовой-Стрешневой: «Достопочтеннейшая Госпожа и раба Христова Прасковья Петровна! Сестры Г[осподина] Гоголя, девицы Анна и Елисавета Васильевны уведомили меня сей час, что они могут сегодня приехать к Вам, если Вы пошлете за ними возок, в каком бы часу то ни было. Если же Вам не время принять их сегодня, то покорнейше прошу известить меня, когда и в какие часы Вы будете иметь время на это, дабы я мог передать им приглашение Ваше. Между тем, как здесь представляется Вам случай сотворить утешение непорочным детям Отца Небесного и Вашим сестрам во Христе Иисусе, и соделать доброе дело, или, лучше сказать, положить основание для целого здания добрых дел, естьли то Провидению Божию благоугодно; то пожелайте, пред Сердцеведцем, поступить самым обязательнейшим образом, например, пошлите возок, или карету, и служителя в ливрее за каретою, с приказанием — говорить, отворять и затворять дверцы, и прочее и прочее, как можно почтительнее, — первые впечатления чрезвычайно важны и глубоки — и далеки могут быть в добрых последствиях и плодах к общей радости о Господе, от Него же всякая благодать и дар просящим с верою и уповающим на Него. Предадим сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Его беспредельному милосердию. Да будет Он посреди Вас, когда Вас трое соберется о имени Его. А[рхи-мандрит] Макарий» (Письма, 1905, 349–350).
Действительно, как теперь известно из позднейших воспоминаний Елисаветы Васильевны, присылка богатой кареты с форейтором — и человеком в ливрее — оказалась для нее весьма памятной.
Из писем о. Макария следует, что в начале января встреча не состоялась. Новый визит был намечен месяц спустя, на 6 февраля. В этот день о. Макарий писал П. П. Глебовой-Стрешневой: «Естьли нет препятствий к исполнению вчерашнего намерения познакомиться с девицами Гоголевыми; то покорнейше прошу Вас, Достопочтеннейшая Госпожа и раба Христова, послать к ним экипаж, чтобы они могли приехать к Вам. Но, к сожалению, я не могу провести вечер сегодняшний в беседе со всеми вами; меня отозвали в малолетный кадетский Корпус, а оттуда я должен ехать к Г[осподину] [С. А.] Маслову. — Или лучше приехать к Вам? Но я не знаю, каково это принято будет, что я и вчера у Вас был, и сегодня буду; а притом надобно, чтобы Вы уведомили меня, пошлете ли за Гоголевыми, и, естьли они приехали бы, то сани Ваши были бы присланы за мною в семь часов вечера. Терпите и действуйте в духе Христовом! А[рхимандрит] Макарий» (Письма, 1905, 351).
Визит сестер Гоголя в дом на Большой Никитской состоялся, однако, еще позднее, в период до 7 марта 1840 г., когда архим. Макарий наконец выехал из Москвы на Алтай. В недатированной записке к П. П. Глебовой-Стрешневой о. Макарий сообщал: «Девицы Гоголевы обещались у Вас обедать сегодня, Достопочтеннейшая Госпожа и раба Христова; а между тем и я приеду во 2-м часу, и наша сестра о Господе София (имеется в виду С. Г. де Вальмонт. — И. В. ) вскоре после меня. Итак, несите великодушно тяготы ближних Ваших, и сим образом исполняйте закон Христов. А[рхимандрит] Макарий» (Письма, 1905, 351).
Согласно этой записке, на вечере вместе с сестрами Гоголя присутствовала известная впоследствии алтайская миссионерка, помощница о. Макария София Густавовна де Вальмонт (Valmond; род. около 1800). С. Г. де Вальмонт была выпускницей Смольного института благородных девиц 1818 г., дочерью убитого в Бородинском сражении штабс-капитана Нарвского полка Густава Филипповича де Вальмонта. Она стала первой подвижницей-женщиной, сменившей столичное комфортное жительство на суровый Алтай.
Можно только догадываться, видел ли Гоголь возможных помощниц о. Макария в своих сестрах — таких же, как Софья Вальмонт, воспитанницах петербургского института. Свидетельств об этом не сохранилось, однако возможность такого пути для Гоголевых сестер существовала. (Разлука с родными, с матерью и братом, помехой для Анны и Елисаветы, очевидно, не являлась. Во всяком случае младшую из них, Елисавету, Гоголь в том же году оставил в Москве на два года на воспитание в чужом семействе. Да и до того они провели вдали от матери безвыездно семь лет в институте.)
В характере взаимоотношений Гоголя с о. Макарием обращает на себя внимание одно не вполне ясное обстоятельство. Странно само по себе, что уважаемый, обремененный многими хлопотами и заботами пастырь — постоянно занятый делами миссии и, в частности, переводами Библии с древнееврейского языка — соглашается вдруг, «несмотря на неименье времени и кучу дел», давать частные уроки двум юным девушкам. Непонятно также и то, почему, со своей стороны, Гоголь не счел неуместным обратиться с такой просьбой к архимандриту. Это почти то же, как просить о подобном одолжении епископа. К тому же и Закон Божий сестры Гоголя в Патриотическом институте в Петербурге все-таки изучали. И законоучителем их в институте был пастырь тоже незаурядный — протоиерей Казанского собора П. Н. Мысловский (1777–1846) (о. Петр Мысловский известен, в частности, тем, что, будучи духовником декабристов, привел многих из них к покаянию).
Тем не менее приглашение архим. Макария на роль «личного» законоучителя гоголевских сестер состоялось. Разгадка этой странности, возможно, заключается в том, что между Гоголем и о. Макарием существовала предварительная договоренность: уроки Закона Божия, кроме своей прямой цели, выступали своего рода предлогом для привлечения — если получится — сестер Гоголя к миссии. В этой связи становятся более понятными приведенные выше слова о. Макария в письме к П. П. Глебовой-Стрешневой о том, что впечатления, которые могут получить сестры Гоголя от визита к ней, «чрезвычайно важны и глубоки — и далеки могут быть в добрых последствиях и плодах», — а также слова о том, что, приглашая к себе сестер, та может сделать не просто «доброе дело», но — «лучше сказать» — «положить основание для целого здания добрых дел», если «то Провидению Божию» будет «благоугодно» (курсив мой. — И. В.). Слова эти могут показаться крайним преувеличением (какого, на самом деле, «целого здания добрых дел» можно ожидать от рядовой встречи!), если не иметь в виду особых намерений Гоголя и о. Макария.
На Алтай архим. Макарий уехал в 1840 г. в сопровождении двух новых сотрудников, А. Г. Левицкого (Ловицкого; 1809-1874; с 1845 г. — иером. Акакий) и С. Г. де Валь-монт (Письма, 1905, 34, 383). Среди его сподвижников-миссионеров на Алтае было несколько мужчин — и только одна женщина, которая и появилась в миссии в 1840 г. Лишь София Вальмонт, достаточно образованная, могла в полной мере выполнять миссионерское служение. 6 февраля 1841 г. о. Макарий сообщал П. П. Глебовой-Стрешневой: «Кроме девицы Софии, служит при Миссии одна преклонных к старости лет вдова, Прасковья™ (имеется в виду П. М. Ландышева. — И.В. ) <™> Старица Прасковья печет хлебы на братьев, живущих в Майминском стане; начальствует в Богадельне, и на часть ее перепадают дела послушания довольно черные, которые она обработывала доныне с достохвальным терпением и усердием…» (Письма, 1905, 383).
Для просвещения женского населения Алтая архим. Макарий испытывал острую нужду в миссионерах-женщинах, а потому, видимо, и согласился быть наставником юных сестер Гоголя — предполагая вместе с ним, что те могут пополнить ряды миссии. О назначении С. Г. де Вальмонт в Алтайскую миссию отец Макарий 12 августа 1841 г. писал Н. И. Ананьину: «Девица София Вальмонд, воспитанница Смольного института в С.- Петербурге, приехала сюда учить новокрещенных девочек грамоте, и вообще содействовать церковной миссии, по женскому полу, в распространении истин Евангельских в здешнем народе; я пригласил ее сюда, быв увлечен убеждением в справедливости предположений моих, представленных Высоким Властям… она отправилась из Москвы не иначе, как испросив письмом у Московского митрополита [Филарета] благословение…» (Письма, 1905, 309). Под «предположениями», «представленными Высоким Властям», о. Макарий имел в виду отправленную им в январе 1839 г. Святейшему Синоду и императору Николаю I свою пространную записку «Мысли о способах к успешному распространению Христианской веры между Евреями, Магометанами и язычниками в Российской державе», в которой немало страниц посвятил вопросу о важности женского миссионерства (Макарий Алтайский, 1894, 9-15, 99-130); [Филимонов, 1888, 148] . В том же году архим. Макарий сообщал о своей новой сподвижнице, С. Г. де Вальмонт, П. П. Глебовой-Стрешневой: «Ревностные труды… сей благородной сестры™ явно содействовали к успехам служения Миссии в здешнем краю. Она помогает больным™ старается путями приветливого обращения с девицами, вдовами и замужними женщинами распространять между ними познание истин Евангельских… учит девочек грамоте» (Письма, 1905, 384); «Учит по-прежнему девочек, учится и сама в школе Креста» (Письма, 1905, 401).
Гоголь тогда, по-видимому, довольно тесно общался с о. Макарием. Свидетельством того может служить не только его письмо к матери от 25 января 1840 г. (уже цитированное), но и одна из реминисценций того времени в первом томе «Мертвых душ» перевода архим. Макария на русский язык Книги св. пророка Исаии [Виноградов, 2017–2018, т. 3, 396] (именно этот перевод был тогда завершен о. Макарием [Филимонов, 146]). Вполне вероятно, что св. Макарий поделился с Гоголем и своей насущной озабоченностью о миссионерстве женщин.
О плане устройства сестер в Алтайскую миссию (если таковой в самом деле существовал) матери Гоголь по понятным причинам сообщать не стал. (Вскоре, в начале апреля 1840 г., та приехала в Москву и забрала с собой на родину дочь Анну.) Вероятно, эти же намерения Гоголя относительно сестер объясняют и некоторую его досаду на них: он готовил их к Алтайской миссии, а те, не подозревая о планах брата, хлопотали только о нарядах и развлечениях. Сестрам в итоге о своих намерениях по поводу их судьбы Гоголь тоже не сообщил. Хотя они знали, что о. Макарий
«приезжал искать себе спутников или спутниц, чтобы проповедовать христианскую веру» (как об этом сообщала в своих мемуарах Елисавета Васильевна), однако обе так и остались в уверенности, что к «какой-то даме Глебовой» их возили лишь потому, что о. Макарий рассказал о них как чувствительных барышнях, умилившихся до слез его уроками. На самом деле настоящей целью встречи было, вероятно, познакомить юных кандидаток в миссию с Софией де Вальмонт, уже принявшей решение ехать на Алтай, — представить ей тех, с кем ей бок о бок предстояло бы трудиться.
Уместно добавить, что тема сибирской духовной миссии возникла несколько лет спустя еще у одной женщины из окружения Гоголя. Осенью 1845 г. с Гоголем в Риме познакомилась Екатерина Александровна Хитрово (1805–1856), в ту пору домашняя воспитательница юного П. П. Дурново (позднее — генерал от инфантерии); впоследствии, с 1852 г., — сестра-надзирательница основанной в 1850 г. А. С. Стурдзой Одесской общины сердобольных сестер. Со Стурдзой в 1851 г. Хитрово познакомил именно Гоголь. По его совету она, по-видимому, и вступила в общину [Виноградов, 2017–2018, т. 7, 47, 58]. Служение Е. А. Хитрово на этом поприще обратило на себя внимание великой княгини Елены Павловны: в период Крымской войны в 1854–1855 гг. Хитрово была призвана в Симферополь в качестве настоятельницы сердобольных сестер Симферопольской Крестовоздвиженской общины. Деятельность Хитрово в Симферополе (где она скончалась от тифа) высоко оценил академик М. И. Пирогов.
По-видимому, беседы о подвижническом пути женщины велись между Хитрово и Гоголем еще в 1845-1846 гг. В 1846 г. сразу после знакомства с Гоголем она сообщала своей сводной сестре: «Я познакомилась с Гоголем… <…> Он не только умен, но и нравственен чрезвычайно. Всякое слово его пробуждает доброе чувство в душе» [Виноградов, 2017–2018, т. 5, 249]. Переехав тогда с семьей воспитанника в Неаполь, Хитрово вспоминала о Риме: «Там все напоминает о… цели возвышенной, к которой надобно идти узкими вратами» [Неофит Неводчиков, 1864, 125]. Спустя еще некоторое время Е. А. Хитрово писала названной сестре уже из Венеции: «Да, я скоро возвращусь, и очень радуюсь этому. А хороши здесь небеса и виды, и весело скользить в гондоле. Как-то легко чувствуется, но не глубоко, — и я, на все это смотря, вздыхаю о пустой, суровой земле, как Сибирь, в которую, если б была возможность, уехала б, кажется, при какой-нибудь миссии™» [Неофит Неводчиков, 1864, 125]. Строки об отправлении в Сибирь при духовной миссии выглядят для девушки, находящейся в роскошной южной стране, неожиданно и странно, если не иметь в виду, что они могли быть навеяны рассказами Гоголя о прп. Макарии и его Алтайской миссии.
Есть, таким образом, достаточные основания полагать, что совместный план Гоголя и о. Макария относительно привлечения сестер Анны и Елисаветы Васильевн к «распространению истин Евангельских» среди женщин Алтая в действительности обсуждался. Однако, так или иначе, воплотиться ему было не суждено. Несомненно, Гоголь видел и понимал, что уроки отца Макария, преподаваемые его сестрам, при всем авторитете и выдающихся способностях пастыря, несмотря на его трогательные заботы о богатой, впечатляющей для юных барышень карете — и о подчеркнутой почтительности сопровождающего человека в ливрее, — оказали на них в духовном отношении, в отличие от самого Гоголя, малое влияние. По-видимому, и этот опыт отразился позднее в том выводе Гоголя о состоянии церковной проповеди — об отношении к ней современников, — который содержится в его известной книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Гоголь писал, что пастырское слово очень часто остается втуне, люди «глухи к словам» священника. Не без горечи он замечал, что «многие из духовных™ уныли™ [и] почти уверились, что их теперь никто не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух — и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье» (Гоголь, 2009-2010, т. 6, 94). — Тем не менее, уповая на действенность слова, Гоголь одновременно тут же восклицал: «Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке…» (Гоголь, 2009–2010, т. 6, 196).
Позднее, в 1845 г., Александра Осиповна Смирнова сообщала Гоголю из Калуги: «В губернии сидят там и сям по монастырям люди удивительные; но влияние их не распространяется за монастырские ограды. В 180-ти верстах от нас, в Болхове, живет Макарий, тот, который был у бурят; в Петербурге он никому не полюбился и сидит теперь под гнетом, обучает детей и лечит больных; преобразовал свой монастырь, который славился развратом» (Гоголь, 2009–2010, т. 13, 251).
Смирнова, конечно, питалась слухами. Но точно под стать нелестной характеристике Болховского монастыря по приезде туда прп. Макария были городские обыватели Болхова. Среди них — самых первых лиц города — были, к примеру, такие, которые не знали даже словосочетания «Символ веры», а из молитв называли только «Вотчу»: так один из них, встречавший о. Макария, называл молитву «Отче наш»: « Верую не прочитаю, а Вотчу знаю» (Письма, 1905, 50). Поле для пастырской деятельности открывалось для св. Макария, так же как позднее для св. праведного Иоанна Кронштадтского, тоже предполагавшего посвятить себя миссионерской деятельности в Сибири и Северной Америке, не меньшее, чем в далеком Алтае.
О кончине о. Макария в Болхове 18 мая 1847 г. историк Михаил Петрович Погодин сообщал Н. В. Гоголю: «Отец Макарий скончался, и прекрасной кончиной» (Гоголь, 2009–2010, т. 14, 401); он «скончался в тот [самый] день, в который назначил свой выезд… [в] Иерусалим» (Гоголь, 2009–2010, т. 14, 322). Задуманное паломничество в земной Иерусалим стало для прп. Макария Алтайского отправлением в Иерусалим Небесный.
Позднее А. О. Смирнова, сообщая В. А. Жуковскому о смерти самого Гоголя, писала: «Какая трогательная смерть! Так скончался недавно Макарий, в Болховском монастыре настоятель…» [Виноградов, 2017–2018, т. 7, 394].
Подытоживая старания Н. В. Гоголя по воспитанию родных сестер, надо сказать, что в конце концов писатель все же добился своей цели. Сестру Елисавету в 1840 г. он, после уроков о. Макария, определил ко вдове Прасковье Ивановне Раевской (1788–1846), набожной и благочестивой женщине, которая, проведя по смерти мужа уже пять лет в монастыре, оставила его лишь ради заботы о маленькой племяннице — «по случаю несогласия между собой ее родителей» [Виноградов, 2017–2018, т. 3, 427]. После двухлетнего проживания у Раевской юная Елисавета Васильевна в корне переменилась, что с удовлетворением отмечал и сам Гоголь, и его знакомые [Виноградов, 2001, 511]. Вполне усвоила уроки брата и старшая сестра, Анна.
Известно, что еще одна сестра Гоголя, самая младшая — Ольга, под влиянием брата даже собиралась пойти в монастырь [Виноградов, 2017–2018, т. 7, 72]. И сама мать Гоголя, по свидетельству первого гоголевского биографа, П. А. Кулиша, была похожа на «игуменью монастыря» [Виноградов, 2015: 12]. Не случайно в своем духовном завещании (в разделе «Совет сестрам ») Гоголь советует родным обратить их родовое имение в «монастырь», выстроив «посреди двора» еще одну церковь (Гоголь, 2009–2010, т. 6, 413) к уже имеющейся неподалеку (построенной еще отцом писателя).
Получалось прямо по Ф. М. Достоевскому, который говорил, что, если помещица, та же гоголевская Коробочка, станет настоящей, совершенной христианкой, матерью для крестьян, то от крепостного права и следа не останется: «Да, конечно, господа насмешники, — писал Достоевский, — настоящих христиан еще ужасно мало (хотя они и есть)» (Достоевский, 1984, 164).
Желание Гоголя, высказанное в его духовном завещании — открыть в одном селении, в родном гнезде, сразу две церкви, и даже монастырь, — определенно перекликается с его известным суждением о влиянии монастырей на народную жизнь. Проезжая в 1850 г. Оптину пустынь, Гоголь говорил земляку Михаилу Максимовичу: «Пустынь эта распространяет благочестие в народе. <…> И я не раз замечал подобное влияние таких обителей» [Виноградов, 2017–2018, т. 6, 511]. До настоящего времени не был отмечен один важный контекст этого значимого гоголевского высказывания. Слова Н. В. Гоголя о благотворном влиянии обителей на окрестных жителей перекликаются с одним из его обобщающих рассуждений в «Выбранных местах из переписки с друзьями» о всей России. В этом рассуждении Гоголь приводит мнение французского писателя-путешественника Астольфа де Кюстина (1790–1857), литератора, известного своим откровенно враждебным отношением к Российской империи. Гоголь пишет: «Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей Русской земле так сильно, что даже чужеземцы… ими поражаются… <…> Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать… с дурной стороны Россию (маркиз Кюстин), не мог скрыть изумленья™ <™> при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен» (Гоголь, 2009–2010, т. 6, 192).
Во свидетельство того, насколько благотворно влияние Церкви и монастырей на народную жизнь, Гоголь — безусловно, намеренно, — обратился к «независимому» источнику, более того — к источнику, как сам он подчеркивает, пропитанному враждой к России. Дело в том, что Кюстин в своей книге (Custine, 1843), исполненной, по оценке В. В. Кожинова, «восторга, страха и проклятия» в адрес России [Кожинов, 1999, 169], когда сообщает о «благородных, увенчанных сединами» русских крестьянах, то тут же упоминает либо об «окрестной церквушке» (Кюстин, 1996, т. 1, 309), либо пишет об этом, находясь в самом монастыре (Кюстин, 1996, т. 2, 183). В частности, именно в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Кюстин написал те самые строки, которые привлекли такое внимание Гоголя. Известно, как отзывался о русском народе Хлестаков-Белинский — что это, мол, «глубоко атеистический» народ (Гоголь, 2009-2010, т. 14, 370). Но вот что писал в те же годы о русском народе французский, враждебно настроенный к России публицист Кюстин: « В Троицкой лавре, в двадцати лье от Москвы, 17 августа 1839 года. <…> Нигде более, чем в этой части России, не видал я столько прекрасных старческих лиц — и безволосых, и седых. Лики Иеговы, непревзойденно писанные первым учеником Леонардо да Винчи, — творения не столь идеальные, как думалось мне [ранее] при виде фресок Луини в Лайнате, Лугано, Милане. Здесь такие лики встречаются вживе на пороге любой хижины; эти красавцы старики — румяные, круглощекие, с блестящими голубыми глазами, с умиротворенным выражением на лице, с серебристою, переливающеюся на солнце бородой, оттеняющею безмятежно-благожелательную улыбку на устах… <…> Надобно побывать среди русских селян, чтобы постичь чистый образ патриархального общества и возблагодарить Господа за тот блаженный удел, что даровал Он, невзирая на все ошибки правительств, этим кротким созданиям, между рождением и смертью которых пролегает… долгая череда лет, прожитых в невинности. <…> Словно патриархи нашего времени, они на склоне лет своих величаво вкушают покой… <…> Если б из своего путешествия в Россию я привез одно лишь воспоминание об этих безмятежных старцах, сидящих у незапиравшихся дверей, — я и тогда не пожалел бы о тяготах поездки, в которой повидал людей, столь непохожих на крестьян любой другой страны» (Кюстин, 1996, т. 2, 185–186).
Таким образом, на то, что монастыри «распространяют благочестие в народе», обращал внимание не один Гоголь. Труды монастырей и монастырских учреждений, в том числе Алтайской миссии прп. Макария, и всех тех монастырей, где он подвизался, были и остаются самым важным началом народной жизни. Только это вос-питующее начало — «непотрясаемый камень нашей Церкви» (Гоголь, 2009-2010, т. 6, 160), — образует, по Гоголю, настоящего русского человека. В 1849 г. он писал графине Анне М. Виельгорской: «Для того, чтобы сделаться русским, нужно обратиться к источнику… <…> К источнику всего русского, к Нему Самому [к Спасителю] следует за этим обратиться» (Гоголь, 2009-2010, т. 15, 169, 171). Именно этот духовный источник и был определяющим для Гоголя в воспитании его сестер.
Изучение жития прп. Макария Алтайского и биографии и творчества Н. В. Гоголя дает возможность дополнить новыми фактами еще одну страницу истории Алтайской миссии и охарактеризовать гоголевские стремления по духовному воспитанию родных сестер, заботы об устройстве их судьбы (возможно, в качестве сотрудниц Алтайской миссии архим. Макария) как наглядное проявление веры и религиозности писателя, определявших замысел и содержание его поэмы «Мертвые души».
Список литературы Н. В. Гоголь и алтайская миссия преподобного Макария (Глухарёва). К 175-летию преставления святого
- Гоголь (1951) — Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: [в 14 т.]. Т.6 / Текст и комм. подгот. B. А. Жданов и Э. Е. Зайденшнур. [Л.]: АН СССР, 1951. 924 с.
- Гоголь (2009-2010) — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009-2010. Т. 1-17. 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 с.
- Достоевский (1984) — Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Ежемесячное издание. Год III. Единственный выпуск на 1880 // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 26. С. 129-174.
- Кюстин (1996) — Кюстин А, де. Россия в 1839 году: в 2 т. / Пер. с фр. под ред. В. Миль-чиной. М.: Изд-во Сабашниковых, 1996. Т. 1-2. 480 + 528 с.
- Макарий Алтайский (1894) — [Макарий Алтайский, преподобный]. Мысли о способах к успешному распространению Христианской веры между Евреями, Магометанами и язычниками в Российской державе. Архимандрита Макария Глухарева С предисловием Священника С. В. Страхова. М.: Типография А. И. Снегиревой, 1894. 131 с.
- Неофит Неводчиков (1864) — Неводчиков Н., свящ. [впоследствии архиепископ Кишиневский Неофит]. Воспоминания об Екатерине Александровне Хитрово // Херсонские епархиальные ведомости. 1864. № 3. С. 118-128; № 4. С. 260-281; № 7. С. 348-370.
- Письма (1905) — Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской Миссии. С биографическим очерком, портретами, видом и двумя факсимиле / Под ред. К. В. Харламповича. Казань: Центральная типография, 1905. 558 с.
- Плетнев (1836) — [Плетнев П.А.] Императрица Мария // Современник. 1836. Т.1. C. 4-13.
- Custine (1843) — [Custine А. de]. La Russie en 1839. Par le marquis de Custine. [En 3 tomes]. Paris: Librairie D^myot, 1843. 354 + 416 + 470 p.
- Виноградов (2001) — Виноградов И.А Примечания // Неизданный Гоголь. Изд. подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 431-590.
- Виноградов (2015) — Виноградов И.А Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: Из истории образования в России. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 352 с.
- Виноградов (2017-2018) — Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). С родословной летописью (1405-1808): в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017-2018. Т. 1-7. 736 + 672 + 672 + 704 + 928 + 656 + 640 с.
- Кожинов (1999) — Кожинов В. Маркиз де Кюстин как восхищенный созерцатель России: К 160-летию знаменитого путешествия // Москва. 1999. № 3. С. 164-169.
- Пивоваров и др. (2016) — Пивоваров Б., прот, Павлова О.А., Ахмадиева С. Ф, Третьякова М.К., Тихомиров Б.А. Макарий (Глухарёв Михаил Яковлевич.) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2016. Т. 42. С. 434-444.
- Филимонов (1888) — [Филимонов Д.Д.] Материалы для биографии основателя Алтайской миссии Архимандрита Макария. Д. Фил-нова. М.: Университетская типография: 1888. 225 с.