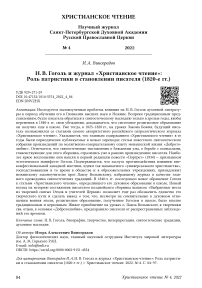Н. В. Гоголь и журнал "Христианское чтение": роль патристики в становлении писателя (1820-е гг.)
Автор: Виноградов Игорь Алексеевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (103), 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуется малоизученная проблема влияния на Н. В. Гоголя духовной литературы в период обучения его в Гимназии высших наук в Нежине. Вопреки традиционным представлениям, будто писатель обратился к святоотеческому наследию только в зрелые годы, якобы переменив в 1840-х гг. свои убеждения, доказывается, что системное религиозное образование он получил еще в школе. Уже тогда, в 1825-1828 гг., на уроках Закона Божия, будущий писатель познакомился со статьями самого авторитетного российского патрологического журнала «Христианское чтение». Указывается, что главным содержанием «Христианского чтения» в те годы были периодически публикуемые в новых переводах статьи известного святоотеческого собрания произведений по молитвенно-созерцательному опыту монашеской жизни «Добротолюбие». Отмечается, что святоотеческие наставления о блюдении ума, о борьбе с помыслами, главенствующие для этого сборника, отразились уже в ранних произведениях писателя. Наиболее яркое воплощение они нашли в первой редакции повести «Портрет» (1834) - признанном эстетическом манифесте Гоголя. Подчеркивается, что заслуга противодействия влиянию внеконфессиональной западной мистики, идеям так называемого «универсального христианства», господствовавшим в то время в обществе и в образовательных учреждениях, принадлежит нежинскому законоучителю прот. Павлу Волынскому, избравшему журнал в качестве главного проводника святоотеческих традиций. В 1840-х гг. последовало новое обращение Гоголя к статьям «Христианского чтения», определившего его духовное образование в школе. Новый взгляд на историю составления писателем позднейшего сборника выписок «Выбранные места из творений святых Отцов и учителей Церкви» позволяет еще раз обозначить единство его творческого пути и сделать вывод о том, что, несмотря на сомнительные в духовном отношении веяния эпохи, религиозное образование, полученное Гоголем в школе, было вполне традиционным и церковным. Живое приобщение на уроках о. Павла Волынского к творениям свв. отцов, к основам «Добротолюбия», предохранило писателя от распространенных заблуждений его времени.
Н. в. гоголь, биография, творчество, интерпретация, святоотеческие традиции, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/140296147
IDR: 140296147 | УДК: 929+271-29 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_4_84
Текст научной статьи Н. В. Гоголь и журнал "Христианское чтение": роль патристики в становлении писателя (1820-е гг.)
В литературе о Н. В. Гоголе неоднократно отмечалось, что насыщенная, сосредоточенная мысль, пронизывающая его произведения, объясняется следованием писателя «испытанному тысячелетиями искусству нравственной проповеди — гомилетики» и само его творчество являет собой некий завершающий этап «третьего южнославянского влияния» на Руси, «высшим достижением» которого для XVIII в. выступает наследие св. Димитрия Ростовского, а для XIX в. — гоголевские сочинения [Паламар-чук, 1990, 388]. Сам Гоголь в статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) указывал на «слово церковных пастырей» как на важнейший источник своего творчества (Гоголь, 2009–2010, т. 6, 155–156). Исследователь В. А. Дес-ницкий, говоря о церковно-проповедническом начале как одной из важнейших составляющих гоголевского стиля, подчеркивал: «Наличие этой струи в художественной литературе особенно характерно для Украины, где и городское и сельское духовенство не было так обособлено от поместного дворянства, как в Великороссии, и где развитие церковной проповеди шло иными путями. Учесть же эту „струю“ было особенно важно, потому что в ней органически связываются публицистическая и художественная ткани гоголевского творчества» [Десницкий, 1930, 31–32]. На принципиальное значение церковно-проповеднического жанра для понимания гоголевской поэтики указывали также Б. М. Соколов [Соколов, 1910], В. А. Воропаев [Воропаев, 1981a; 1981b] и др. Новый материал, в достаточной мере еще не освоенный исследователями, представляют собой выписки Гоголя, которые он делал непосредственно при чтении духовной литературы. Настоящая статья является продолжением исследования, начатого в 1902 г. [Петров, 1902b], но затем на долгое время, по причинам идеологического характера, в науке оставленного.
Важность религиозной основы для творчества Гоголя сомнений не вызывает. Между тем восприятие, а порой и изучение его наследия до сих пор во многом определяется особенностями истекшей эпохи. История XIX–XX вв. свидетельствует, что идеология советского периода, несмотря на декларируемые ценности, на известный «литературоцентризм» гуманитарной сферы, оказалась в отношении к наследию русских классиков во многом нетерпимей цензуры дореволюционного периода. Едва ли не самым показательным в ужесточении цензурной политики XX в. стало творчество Гоголя. Переиздавая гоголевские сочинения, представители новой идеологии и цензуры выискивали в надзорных действиях своих предшественников всевозможные недочеты, пополняя гоголевские тексты отдельными фразами и отрывками (остававшимися, по вине цензуры или автоцензуры, в черновиках). Но одновременно, по политическим причинам, цензура новой эпохи сделала в наследии Гоголя столь существенные купюры, что эти изъятия не идут ни в какое сравнение с теми незначительными сокращениями, которые были произведены в текстах Гоголя всеми дореволюционными цензорами, вместе взятыми (см. подр.: [Виноградов 2021a, 27–32]).
Пострадавшие от советской цензуры гоголевские тексты немалочисленны. Из читательского оборота исключались в те годы отнюдь не отдельные фразы или слова писателя, но целые пласты его творчества — прежде всего те, что тесным образом были связаны с традициями пастырского слова, которым наследовал Гоголь. После 1917 г. из собраний сочинений Гоголя был изъят, по сути, целый том, включающий в себя такие важные в духовном отношении произведения, как «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», статья «О Современнике», статья «Искусство есть примирение с жизнью» и, конечно, книга «Размышления о Божественной Литургии» (см.: (Гоголь, 1901; 1919)). Начальный этап марксистского цензурирования Гоголя послужил руководством для целого ряда последующих советских собраний его сочинений (Гоголь, 1927; 1928; 1929; 1930), в том числе для академического «полного», изданного в 1937–1952 гг. (Гоголь, 1937–1952). Сюда книга Гоголя о Литургии тоже не вошла (вместе с еще целым рядом других текстов духовного содержания, изданных до 1917 г.: сочинением <О любви к Богу и самовоспитании> (или «Правилом жития в мире»); выписками из «Домостроя»; гоголевскими молитвами и др.).
Ангажированному сокрытию подлинного облика писателя служило, кроме этого, намеренное игнорирование обширного корпуса гоголевских текстов, долгие годы хранившихся невостребованными в советских (российских и украинских) архивах. Это утраченный ныне девяностостраничный сборник выписок Гоголя «Из книги: Лествица, возводящая на небо»; авторские духовные заметки <О гневе и безгневии>; <О благодарности>; выписки «Премудрости Соломоновы чтение»; <Изложение… книги святителя Иннокентия (Борисова) «О грехе и его последствиях»>; <Выписки из Кормчей книги>; итальянский перевод Гоголя <«Увещательных глав» диакона Агапита святому правоверному царю Юстиниану>; двухсотстраничный рукописный сборник «Каноны и песни церковные», гоголевские выписки и пометы при чтении Библии, отдельные строки записной книжки писателя [Виноградов, 2021b] и др. В целом эти тексты, появившиеся в печати лишь в самое последнее время, в конце XX — начале XXI вв., составляют почти полтысячи страниц, около 20 а. л.
К числу таких трудов Гоголя, отвергнутых советской идеологией, относится и объемный рукописный сборник «Выбранные места из творений святых Отцов и учителей Церкви». Обращение к этому источнику, хранящемуся в Отделе фондов рукописного наследия Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского НАНУ (Ф. Дис. 2165; Ф. Гог. 78), стало возможным лишь в конце 1980-х гг. В те годы автором настоящей статьи гоголевский сборник был подготовлен к публикации (вместе с еще несколькими текстами духовного содержания) и сопровожден комментариями. Впервые эта рукописная книга Гоголя была напечатана в 1994 г., с выходом в свет нового собрания сочинений писателя в девяти томах (Гоголь, 1994, т. 8, c. 480–559). В 2009 г. отдельные фрагменты этого сборника были уточнены украинским исследователем П. В. Михе-дом по автографам, обнаруженным в Отделе рукописей Института литературы имени Т. Г. Шевченко НАНУ (Ф. 17. № 5) (Гоголь, 2009–2010, т. 9, 95–105, 809). Поскольку большая часть хранящегося в Киеве сборника представляет собой выписки из журнала «Христианское чтение», то в вопросе о роли важнейшего отечественного периодического издания в судьбе Гоголя первостепенное значение имеет именно эта рукопись.
Выписки были сделаны Гоголем из отдельных номеров «Христианского чтения» за 1841–1843 гг. Это точно установленный факт, являющийся важной составляющей его биографии. Но обращение к сборнику «Выбранные места из творений святых Отцов и учителей Церкви» невольно служит необоснованным поводом для «обновления» давних недоразумений об эволюции писателя. Точное хронологическое приурочение, будучи произвольно истолкованным, к сожалению, косвенно подпитывает и расхожее мнение о том, будто Гоголь обратился к духовной литературе, в том числе к журналу «Христианское чтение», лишь в зрелом возрасте. Возможность такой интерпретации зиждется на том самом игнорировании духовной проблематики творчества Гоголя в целом, которое долгое время господствовало в литературоведении. Конкретно основная причина заблуждения берет свое начало из невнимания к другому, гораздо более раннему — и не менее значимому — периоду влияния на Гоголя журнала «Христианское чтение»: не 1840-х, а еще 1820-х гг., — времени обучения будущего писателя в Гимназии высших наук в Нежине.
Обратимся к выпискам 1840-х гг. К настоящему времени найден и обозначен целый ряд перекличек сборника «Выбранные места из творений святых Отцов и учителей Церкви» с двумя книгами писателя — «Выбранными местами из переписки с друзьями» и «Размышлениями о Божественной Литургии». Тем не менее глубинная связь гоголевских выписок из «Христианского чтения» с наследием писателя — все еще недостаточно изученная проблема. Несмотря на найденные параллели и переклички, многое в этом сборнике по-прежнему нуждается в осмыслении, остается за пределами адекватного понимания.
Проблема возникла еще в 1901 г., когда сборник был впервые передан родными Гоголя для обнародования одному из тогдашних профессоров Киевской духовной академии. Выбор авторитетного духовного заведения был не случаен. В непростые — как оказалось впоследствии, предреволюционные — годы сестрам писателя хотелось, чтобы религиозные выписки брата были оценены не светским, а церковным автором. Случилось, однако, так, что сборник попал сначала все-таки «не в те руки». Получил его тогда — для оценки и обработки — профессор Киевской академии Владимир Зенонович Завитневич (1853–1927) [Чаговец, 1901, 29]. В то время либеральные взгляды этого ученого [Киселев, 2007, 58–66, 70, 115–117, 148–151, 154, 176–191, 224–227, 380] проявились еще не настолько, чтобы отпугнуть гоголевских родственников. Спустя несколько лет эти взгляды послужили тому, что в Киевской академии дважды ставился вопрос об исключении профессора из штата [Киселев, 2007, 52–53, 221]. Судя по написанной В. З. Завитневичем в 1902 г. статье о Гоголе (т. е. вскоре после получения выписок от сестер писателя), исследователь был сторонником радикальных политических взглядов. Так, гоголевские религиозно-политические «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) он определял вполне в духе Белинского, известного оппонента Гоголя. Появление «Выбранных мест…» Завитневич объяснял «внутренним переломом» писателя, называл «религиозной манией», «сухими логическими схемами», «жалким нытьем», «самобичеванием», «возней с своим личным „я“» [Завитневич, 1902b, 357, 405]. В целом гоголевские выписки из «отцов и учителей церкви» [Завитневич, 1902b, 415] и само мировоззрение писателя Завитневич оценил в 1902 г. крайне низко, заявив, что «специалистам богословия тут нечего делать» и что взгляды Гоголя «не выходят за пределы элементарного катехизиса»1 [Завитне-вич, 1902b, 338–339]. Надо сказать, для самого Завитневича богословие отнюдь не было главной специализацией; в Академии он читал лишь гражданскую историю2. Судя по содержанию его работы, в гоголевском мировоззрении исследователю не хватило «передового» религиозного модернизма в духе тогдашней радикальной эпохи. Вследствие этого глубоко церковный, без каких-либо отклонений, характер гоголевских выписок был поставлен Завитневичем Гоголю в вину3.
Родные Гоголя, обнаружив вскоре, что сборник попал «не к тому» профессору, спохватились, и сестра писателя Ольга Васильевна позаботилась о том, чтобы передать рукопись другому ученому той же Академии. На этот раз выбор оказался верным. Сборник был передан более авторитетному профессору Киевской духовной академии, настоящему богослову и исследователю Николаю Ивановичу Петрову (1840–1921). Именно Н. И. Петров, уроженец Костромского края, доктор богословия, с 1916 г. — член-корреспондент Петроградской Академии наук (добавим, крестный отец Михаила Булгакова), написал и напечатал в 1902 г. обстоятельный обзор и разбор гоголевских выписок [Петров, 1902b]. Сборник и само мировоззрение Гоголя получили тогда наконец достойную высокую оценку. (Петров был также глубоким специалистом в украинской литературе. В 1884 г. в Киеве вышла его монография «Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия» [Петров, 1884]; его перу принадлежат также статьи «Следы литературных влияний в произведениях Н. В. Гоголя» [Петров, 1902a], «Южно-русский элемент в ранних произведениях Н. В. Гоголя» [Петров, 1902c].)
Приходится, однако, констатировать, что, к сожалению, и профессору Петрову, при всем глубоком уважении к основательному вкладу этого исследователя в изучение Гоголя (Петрову удалось установить источники большинства гоголевских выписок — а это, как уже отмечалось, именно статьи из «Христианского чтения»), — к сожалению, и этому серьезному ученому охарактеризовать отношение сборника к гоголевскому наследию в полной мере тоже не удалось.
Можно указать две причины, по которым постижение сути гоголевского сборника оказалось затруднительным. Во-первых, сборник рассматривался главным образом как вспомогательный материал. В нем искали какой-то системы, композиции, и, не найдя их, отказывались от попытки понять сборник как единое целое, — использовали содержание выписок лишь для того, чтобы пролить какой-то свет на другие гоголевские произведения. Такой подход, безусловно, вполне обоснован и насущно необходим. Но при столь ограниченном взгляде сборник как самостоятельное явление учеными не рассматривался.
Во-вторых, не были учтены сами житейские обстоятельства, обусловившие составление сборника. Они заключаются в том, что, будучи за границей, Гоголь пользовался крайне ограниченным кругом источников: что было в походных библиотеках его друзей из духовной литературы, то он и читал, оттуда и делал свои выписки. При столь, увы, «случайных» изданиях — журнальных и книжных, бывших у Гоголя под рукой, вопрос о последовательной системе выписок вообще становится излишен.
Важность сборника как явления, его уникальное, самостоятельное значение состоят, судя по содержанию выписок, в другом. Не заключая в себе какой-то строгой системы, каких-то особенных, неожиданных мыслей — каких искал в нем, к примеру, В. З. За-витневич, — эта рукопись верно передает облик самого Гоголя как давно и прочно сложившегося христианина: гоголевское собрание заключает в себе то, что является самым насущным, самым «говорящим» душе писателя — наиболее актуальным для него ко времени составления выписок и наиболее свойственным ему как чаду Церкви.
В этом смысле сборник следует рассматривать в ряду других гоголевских произведений как составную часть писательской «исповеди» [Виноградов, 2020]. Вместо поисков «системы» выписок гораздо оправданней иной подход: попытаться увидеть в них личность самого Гоголя. При этом обнаруживается главное: сборник не является результатом какого-то случившегося в то время с писателем перелома во взглядах, как это обычно ошибочно предполагают. Напротив, это, по сути, итоговое собрание самых дорогих, заветных, давних гоголевских идей. Достаточно, например, прочитать выписку «Вера среди жизни нашей (Преосвященного Гедеона <Вишневского>, Епископа Полтавского)» (Гоголь, 2009–2010, т. 9, 67–68). Здесь можно обнаружить идейные переклички с давно написанными произведениями: с давними размышлениями Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» о «духовных недорослях» [Виноградов, 2000, 153–154], с содержанием «Тараса Бульбы» и историко-научными статьями «Арабесок», в которых вопросы веры занимают первостепенное место [Виноградов, 2021c].
С другой стороны, при изучении сборника возникает еще одна проблема. По-видимому, даже случайным кругом духовного чтения Гоголя за границей не объясняется то обстоятельство, что в выписках 1840-х гг. совершенно отсутствуют некоторые святоотеческие представления, которые были глубоко усвоены писателем уже в самый ранний период его становления — будучи воплощены в произведениях уже первой половины 1830-х гг. Это составляет одну из загадок сборника.
Постижение этой загадки с закономерностью приводит к изучению одной из самых существенных составляющих в развитии Гоголя как художника — к выявлению роли патристической литературы в начальный период его писательского становления. Как обнаруживается, причина неполноты представлений исследователей о сути авторского замысла гоголевского составительского труда 1840-х гг. связана именно с неизученностью раннего этапа духовного пути Гоголя. Проблема особого состава сборника с выдержками из «Христианского чтения» заключается в том, что, как это ни странно , появление выписок 1840-х гг. из этого журнала являет собой отнюдь не первый, а уже второй этап приобщения писателя к публикациям «Христианского чтения», — и это весьма существенным образом повлияло на характер и содержание позднейших выписок. Без учета и понимания этого важного обстоятельства выписки, их состав и отношение к художественному наследию Гоголя по-прежнему будут представлять для нас загадку.
Наличие двух (а не одного) периодов обращения Гоголя к «Христианскому чтению» странно прежде всего потому, что сам писатель в 1843 г. в послании Н. М. Языкову из Дюссельдорфа сообщал: «Я никогда не думал, чтобы наше Христианское чтение было так интересно: там не только прекрасные переводы всех почти Отцов Церкви, не только много драгоценных отрывков из <…> летописей первоначальных христиан, но есть много оригинальных статей, неизвестно кому принадлежащих, очень замечательных» (Гоголь, 2009–2010, т. 12, 274).
Слова в письме обращены к близкому приятелю и с очевидностью продиктованы целью привлечь друга к чтению духовной литературы («советую тебе пересмотреть эти книги», — писал Гоголь (Гоголь, 2009–2010, т. 12, 274)). Сам Гоголь к чтению и конспектированию «Христианского чтения» приступил, по-видимому, еще зимой 1841/42 г. в Москве [Виноградов, 2017–2018, т. 3, 592], однако спустя полтора года в письме к Языкову изобразил дело так, будто только что открыл для себя этот журнал. Принимать особый проповеднический подход Гоголя (стремившегося приохотить приятеля к духовным занятиям) за подлинное свидетельство о том, когда «Христианское чтение» вошло в круг его интересов, вряд ли основательно.
Тем не менее из недвусмысленного признания Гоголя в 1843 г. в письме к Языкову определенно явствует, что сам он «Христианским чтением» до 1840-х гг. не интересовался. Можно ли в таком случае говорить, что этот период был уже вторым в обращении Гоголя к этому журналу? Основания для такого заключения имеются вполне достаточные.
Действительно, сам Гоголь «Христианское чтение» до 1840-х гг., по-видимому, не читал. Однако, как выясняется, был один чрезвычайно важный и несомненный источник, из которого будущий писатель черпал многочисленные сведения, содержащиеся в статьях «Христианского чтения». Причем делал это Гоголь не один, не два раза, а почти бессчетное количество раз, так как происходило это на протяжении нескольких лет. Время, в которое журнал «Христианское чтение» столь долго и обильно оказывал влияние на Гоголя, — это период 1820-х гг., время обучения юного Николая Васильевича в школе, в Гимназии высших наук в Нежине.
Сохранились документальные свидетельства о том, что в продолжение целых четырех лет, с 1825 по 1828 г. (а это последние, наиболее зрелые годы пребывания Гоголя в гимназии), статьи из «Христианского чтения» постоянно читал своим подопечным на уроках Закона Божия штатный законоучитель Нежинской гимназии прот. Павел Иванович Волынский (1770–1839) [Виноградов, 2017–2018, т. 1, 508, 530, 539, 590, 630–631, 657]. Четыре года хотя бы раз в неделю Гоголь — так или иначе, чаще или реже, регулярно или нерегулярно, внимательно или невнимательно, но слушал статьи из «Христианского чтения» в переложении о. Павла Волынского.
Каково же было влияние на Гоголя «Христианского чтения» этих лет? Здесь необходимо обратиться к еще одному важному и непроясненному вопросу.
В свое время весьма поверхностную и несправедливую оценку дал журналу «Христианское чтение» первых лет его существования известный церковный историк прот. Георгий Васильевич Флоровский (1893–1979). Эта оценка появилась в книге о. Георгия «Пути русского богословия», впервые изданной в Париже в 1937 г. [Флоров-ский, 1937], — ныне этот труд хорошо известен православному читателю.
В том же 1937 г. Н. А. Бердяев в своей рецензии на книгу о. Георгия, учитывая то, в каком резко критическом, подчас даже нигилистическом освещении представлена в ней отечественная богословская мысль, назвал это сочинение не «Путями…», а « Беспутством русского богословия» [Бердяев, 1937, 53]4. Основания для такого иронически-ёрнического переименования книги о. Георгия у Бердяева, к сожалению, были. В настоящее время эта книга многими признается едва ли не справочником по истории духовной культуры России. Однако, несмотря на установившийся авторитет, следует признать, что отдельные положения этой книги, порой слишком прямолинейные формулировки автора в духовных вопросах нуждаются ныне в существенном корректировании. К некоторым подкупающе эффектным суждениям о. Георгия Флоровского следует относиться с осторожностью. Что в его книге действительно ценно, так это опора на труды дореволюционного авторитетного исследователя — профессора Казанской духовной академии, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, церковного историка и богослова Петра Васильевича Знаменского (1836–1917), нижегородского уроженца. Глубокими, основательными трудами П. В. Знаменского, редко ссылаясь на первоисточник, широко пользовался о. Георгий Флоровский в своих лекциях, составивших книгу. Обстоятельный источниковедческий анализ труда прот. Георгия еще предстоит, но уже сейчас можно сказать, что, вопреки распространенным представлениям, отнюдь не о. Георгий Флоровский, а именно профессор П. В. Знаменский впервые в историографии обобщил историю Русской Церкви в единую концепцию и предложил ее научно аргументированную периодизацию. Именно труды Знаменского по истории Церкви в царствование Екатерины II и Александра I почти дословно цитирует о. Георгий Флоровский в наиболее ярких и интересных главах своей книги.
Что же касается собственных суждений о. Георгия в «Путях русского богословия», то тут не обходится без промахов. Так, определенно непроверенной информацией из третьих рук пользовался о. Георгий тогда, когда, в частности, характеризовал творчество Гоголя [Виноградов, 2021a, 583]. Для изучения проблемы влияния на Гоголя журнала «Христианское чтение» важно отметить, что на такой же недостоверной информации зиждется и негативный отзыв отца Георгия об этом журнале.
В «Путях русского богословия» о. Георгий писал: «Под характерным названием „Христианского чтения“ [журнал]… начал выходить в 1821-м году. Первой задачей журнала… было давать материал для назидательного чтения. <…> В первые годы „Христианское чтение“ очень напоминало „Сионский Вестник“ по выбору и характеру статей. <…> С самого начала издания „Христианское чтение“ имело неожиданный успех, число подписчиков в первые же годы достигло до 2400…» [Флоровский, 1991, 186]. В успехе «Христианского чтения» о. Георгий Флоровский видел еще одно проявление тогдашнего победного шествия по России западного, псевдоцерковного мистицизма, пример блуждания русского богословия.
Прочитав в книге о. Георгия этот негативный отзыв о «Христианском чтении» — и некритически его восприняв, — можно получить предубеждение к самому основательному духовному русскому журналу первых лет его существования. Однако, как выясняется, доверяться автору «Путей русского богословия» в этом вопросе было бы опрометчиво. Хлесткое, почти хлестаковское сравнение «Христианского чтения» с «Сионским Вестником» — известным в начале XIX в. масонским изданием
А. Ф. Лабзина — неверно и несправедливо. К сожалению, о. Георгий — последовательный поборник православной, церковной патрологии (за что и пользуется заслуженным авторитетом) — проглядел самый патрологический отечественный богословский журнал XIX в. Возникает вопрос, видел ли сам о. Георгий, будучи за границей, первые номера «Христианского чтения»; эти номера давно стали библиографической редкостью в самой России.
Достаточно открыть первые тома журнала, чтобы убедиться, что главное содержание «Христианского чтения» — это отнюдь не пропаганда западной мистики, а многочисленные, публикуемые из номера в номер переводы свв. отцов. Это неоспоримый факт, полностью опровергающий оценку журнала в «Путях русского богословия». Изначально издатели «Христианского чтения» ставили своей целью «обратить внимание на писания отцов Церкви» — «тем более, что в наше время, по каким-то ложным понятиям, они остаются в некоторых не только в забвении, но даже и в пренебрежении» (О цели и предметах, 1821, 12).
В полном соответствии с этим заявлением абсолютно каждый, без исключения, номер журнала, от самого его основания, открывается обширным разделом «Писания Св. Отцев». Более того. Хотя сами издатели этого нигде особо не афишировали, но за восемь лет от основания журнала, с 1821 по 1828 г., в «Христианском чтении» была напечатана, в новых переводах, почти половина (20 из 49) глав-статей «Доб-ротолюбия» — известного святоотеческого собрания произведений, заключающих в себе молитвенно-созерцательный опыт монашеской жизни [Виноградов, 2021c]. В этом отношении «Христианское чтение», основанное будущим митрополитом Санкт-Петербургским Григорием (Постниковым), было одним из важнейших начинаний, предпринятых отнюдь не в духе тогдашнего западного мистицизма и масонства, а напротив, противостоящих распространению идей «универсального христианства», которые стали господствовать в российском образовании с созданием в 1815 г. вне-конфессионального религиозно-политического Священного Союза трех европейских монархов: православного русского императора, австрийского императора-католика и прусского короля-протестанта.
В программе журнала, появившейся в 1821 г. в первом номере «Христианского чтения», сообщалось: «Ныне, несмотря на очевидные действия Провидения и всесильные попечения Христианских Владык… о распространении и утверждении истинного духа Христианской веры… противный дух вводит в умы человеческие свою ложь и тьму. <…> Дух вольномыслия и нововерия бесчисленной толпы в Западном Христианстве, посредством чтения иностранных книг, давно уже проник в Отечество наше; и, бродя по разным классам народа, проникает в умы и сердца некоторых даже низших классов» (О цели и предметах, 1821, 18–19).
Западные мистические веяния коснулись тогда всей сферы российского образования. В том числе они сказались и в программе обучения гоголевской alma mater, нежинской Гимназии высших наук. В борьбу с западным мистицизмом, преподносимым в переводных западных изданиях и учебных пособиях, вступил тогда не только журнал «Христианское чтение». Как известно, защитниками православия стал в ту эпоху целый ряд иерархов и церковных деятелей, в том числе митрополит Санкт-Петербургский Серафим (Глаголевский), известный духовный писатель и подвижник архим. Фотий (Спасский) и др. В конечном счете предпринятые меры привели к упразднению голи-цинского Министерства духовных дел и народного просвещения — и запрету западных мистических изданий (Сборник постановлений, 1864, стб. 1624–1630).
В борьбу с внеконфессиональным, а подчас и антицерковным мистицизмом выступили в ту пору и священники на местах. В эту борьбу, как выясняется, включился и упомянутый законоучитель Гоголя в Нежинской гимназии о. Павел Волынский. Отец Павел по достоинству оценил традиционное, святоотеческое направление журнала «Христианское чтение» (по-видимому, именно этим объяснялась на деле популярность издания) и стал активно знакомить с его содержанием своих подопечных. А поскольку журнал от самого основания имел официальный статус церковного издания, то упрекнуть о. Павла в том, что он будто бы пренебрегает официально утвержденными западными учебными пособиями, вышестоящему начальству было невозможно. Этим о. Павел с успехом и воспользовался. Тем самым нежинский законоучитель благодаря журналу «Христианское чтение» нашел замечательный выход из положения и в итоге уберег своих воспитанников-нежинцев, в том числе Гоголя, от внеконфессиональных, сомнительных в духовном отношении уроков.
Что особенно важно в первых публикациях журнала «Христианского чтения» — публикациях 1820-х гг. — это то, что многие из святоотеческих переводов были непосредственно посвящены таким важным вопросам, как искусство молитвы, практика блюдения ума, т. е. важнейшим аскетическим, практическим понятиям православного богословия, собранным, как уже сказано, в «Добротолюбии».
После этого небольшого экскурса уместно обратиться опять к выпискам Гоголя из «Христианского чтения» 1840-х гг. Весьма показательно, что когда писатель стал самостоятельно изучать «Христианское чтение», то в его выписках из этого журнала в то время уже не появилось ни одной выписки на эту тему — о святоотеческом блюде-нии ума и борьбе с помыслами. В религиозных воспитании и образовании, полученных Гоголем в Нежине в 1820-х гг., обнаруживается, таким образом, необходимое утраченное звено в изучении гоголевского сборника «Выбранные места из творений святых Отцов и учителей Церкви» 1843–1844 гг., т. е. заключается ответ на вопрос, почему в этом позднейшем собрании выписок Гоголя из духовной литературы практически нет святоотеческих наставлений о блюдении ума — хотя все эти понятия и представления в полной мере определяют уже самые первые его художественные произведения.
Упоминания о нечистых помыслах, всеваемых человеку со стороны, встречаются во многих гоголевских произведениях — начиная с самых ранних до позднейших [Виноградов, 2000, 48–50, 305–308]. Достаточно вспомнить об искушениях кузнеца Вакулы в Рождественский сочельник в «Ночи перед Рождеством» [Виноградов, 2016]. Даже в «Ганце Кюхельгартене», юношеской поэме Гоголя 1827 г., есть упоминание о том, как «потревожил дух нечистый / Во сне покой девицы чистой, / Навеял черную печаль» (Гоголь, 2009–2010, т. 7, 33). Позднее, при чтении жития святого, когда в тексте встречалось выражение «диавол прииде», Гоголь пояснял: «т. е. помышление» [Виноградов, 2017–2018, т. 7, 40].
С наибольшей полнотой и очевидностью проблема борьбы с помыслами представлена Гоголем в первой редакции повести «Портрет» 1834 г., т. е. в произведении весьма «раннего», петербургского периода творчества писателя. Эти святоотеческие вопросы являются важнейшими для каждой из двух частей этой повести.
В первой выведен современный художник — из числа тех, «которые не в силах были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей» (Гоголь, 2009–2010, т. 7, 318).
Герой второй части «Портрета» — «скромный, набожный живописец, какие только жили во времена религиозных Средних веков» (Гоголь, 2009–2010, т. 7, 308). Он в свою очередь испытывает те же проблемы, что и художник, изображенный в первой части; рассказчик сообщает, как герой «чувствовал прилив таких отчаянных мыслей, которых невольно содрогался сам» (Гоголь, 2009–2010, т. 7, 312): «Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во всё силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. <…> Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуту самых чистых и святых помышлений» (Гоголь, 2009–2010, т. 7, 317).
Очевидно, что святоотеческие наставления о борьбе с помыслами Гоголю были знакомы не понаслышке, — они были восприняты и освоены писателем — и органически воплощены в ранних произведениях настолько, что почти закономерно оказались обойденными в его позднейших выписках. Гоголю не понадобилось освежать в памяти этот материал, впитанный еще в юношеском, свежем, восприимчивом возрасте. Рассматривать позднейшие выписки из «Христианского чтения» следует, таким образом, в свете того, что уже почерпнул и глубоко освоил Гоголь ранее, через посредство о. Павла Волынского, из статей этого же журнала в школьном возрасте.
С другой стороны, известно, что, закончив в 1844 г. составлять свои выписки из «Христианского чтения», Гоголь обратился к Н. М. Языкову с непосредственной просьбой прислать ему само «Добротолюбие» [Виноградов, 2017–2018, т. 4, 496, 565, 593]. Вряд ли кто-то подсказал тогда Гоголю обратиться к этой книге. Скорее всего, сказались здесь, опять-таки, давние следы влияния на Гоголя его нежинского духовного наставника о. Павла Волынского.
Трудно переоценить значение, какое имеет для понимания гоголевского наследия тот факт, что с «Добротолюбием», с его основным содержанием и главными положениями будущий писатель был знаком уже с юношеских, школьных лет. Главная же заслуга в этом принадлежит — как источнику — журналу «Христианское чтение». Сам Гоголь, объясняя Языкову свой интерес к «Христианскому чтению», подчеркивал: «Я… потому наиболее желал Хр<истианское> чт<ение>, что там бывают переводы из Св<ятых> Отц<ов>» (Гоголь, 2009–2010, т. 12, 327). Если бы, добавлял писатель, вместо «Христианского чтения» Языкову «случилось каким-нибудь образом достать перевод Св<ятых> Отцов, изд<анный> при Троиц<кой> лавре, то это был бы драгоценный подарок» (Гоголь, 2009–2010, т. 12, 326).
То, что Гоголь в 1820-х гг. не сам читал «Христианское чтение», но знакомился с его содержанием из уст о. Павла, возможно, было для юноши даже полезнее. Поскольку от о. Павла он получал не только самое важное и нужное в статьях журнала, но и адаптированное для детского, подросткового восприятия.
Становится, таким образом, понятным, откуда у Гоголя уже в 1830-х гг. имелись столь основательные познания о блюдении ума, которые буквально пронизывают его повесть «Портрет». Важно при этом подчеркнуть, что эта повесть в ряду других произведений Гоголя является признанным художническим манифестом писателя; как известно, он дважды работал над этим программным произведением, опубликовав, последовательно, в 1835 и 1842 гг., две редакции «Портрета».
Хотя сам юный Гоголь не заглядывал в «Христианское чтение», знакомясь с его содержанием исключительно на уроках о. Павла, однако известно, что в те же юношеские годы он самостоятельно читал «Лествицу» прп. Иоанна Синайского, составив тогда обширный конспект этой книги. Об утрате этого конспекта в советские годы уже говорилось; гоголевская рукопись долгое время находилась в Харьковском историческом музее и в период Великой Отечественной войны бесследно исчезла. Досконально знавший, изучавший гоголевские выписки из «Лествицы» на протяжении нескольких лет, с 1926 по 1938 г., литературовед и историк Иван Федорович Ерофеев (1882–1953) видел на рукописном сборнике Гоголя «Из книги: Лествица, возводящая на небо» автограф П. А. Кулиша, первого биографа писателя [Ерофеев, 1926]. К сожалению, Кулиш, владея бесценной гоголевской рукописью, которая была передана ему родными писателя, нигде ни словом о ней даже не обмолвился. Подобно В. З. Завитневичу, этот гоголевский биограф тоже относился к религиозности писателя скептически [Виноградов, 2003]. (Надо сказать, с исследователями, биографами и издателями Гоголю по смерти часто «не везло». Сестра писателя Анна Васильевна в 1889 г., говоря, в частности, о В. И. Шенроке, продолжателе Кулиша в изучении наследия брата, замечала: «Я позавидовала, прочитавши, что Погодин счастлив, что у него такой биограф попался, какой-то Барсуков5. А это Бог знает что» [Виноградов, 2017–2018, т. 4, 181].)
Тот же И. Ф. Ерофеев свидетельствовал, что содержание выписок Гоголя из «Ле-ствицы» перекликается именно с начальной редакцией повести Гоголя «Портрет», т. е. с гоголевским «манифестом» 1834 г. Ерофеев отмечал: «Тут реминисценция образа аскета из первой редакции повести „Портрет“» [Ерофеев, 1926, 175–176]. (К этому наблюдению следует также добавить, что две весьма значимые реминисценции из «Лествицы» встречаются и в гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» [Виноградов, 2000, 157–158; 2017–2018, т. 2, 248], написанной в осенью 1833 г., т. е. незадолго до создания «Портрета» . )
Таким образом, в отличие от внеконфессиональных мистических веяний эпохи, которых, как и все современники, не мог, по понятным причинам, избежать Гоголь, в целом полученное им образование было вполне традиционным и глубоко церковным. Основательное приобщение Гоголя на уроках о. Павла Волынского к творениям святых отцов, к основам «Добротолюбия» предохранило будущего писателя, благодаря журналу «Христианское чтение», от распространенных заблуждений эпохи.
Список литературы Н. В. Гоголь и журнал "Христианское чтение": роль патристики в становлении писателя (1820-е гг.)
- Гоголь (1901) — [Гоголь Н.В.] Сочинения Н.В. Гоголя. 17-е изд. / Под ред. Н.С. Тихонравова и В. И. Шенрока. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1901. 1686 стб.
- Гоголь (1919) — [Гоголь Н. В.] Сочинения Н. В. Гоголя. [Стереотипное воспроизведение, «по старым матрицам», 17-го изд. 1901 г., с исключением стб. 1369-1656, выполненным К. И. Халабаевым] / Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Пг.: Лит.-изд. отдел Народного Комиссариата по просвещению, 1919. 1400 стб.
- Гоголь (1927) — Гоголь Н.В. Сочинения: в 3 т. / Ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. статья Л. Н. Войтоловского. М.; Л.: Государственное изд-во, 1927. 422 + 489 + 398 с.
- Гоголь (1928) — Гоголь Н.В. Сочинения: в 3 т. / Ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. статья Л. Н. Войтоловского. 2-е изд. М.; Л.: Государственное изд-во, 1928. 422 + 489 + 398 с.
- Гоголь (1929) — Гоголь Н. В. Сочинения / Ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. статья Л. Н. Войтоловского. 3-е изд. М.; Л.: Государственное изд-во, 1929. 623 с.
- Гоголь (1930) — Гоголь Н. В. Сочинения / Ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. статья Л. Н. Войтоловского. 4-е изд. М.; Л.: Государственное изд-во, 1930. 623 с.
- Гоголь (1937-1952) — Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: [в 14т.]. [Л.]: АН СССР, 1937-1952. 556 + 764 + 728 + 552 + 511 + 923 + 434 + 816 + 684 + 540 + 484 + 720 + 564 + 487 с.
- Гоголь (1994) — Гоголь Н. В. Собрание сочинений. В 9 т. (В 7 кн.) / Сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. 496 + 560 + 608 + 560 + 624 + 864 + 784 с.
- Гоголь (2009-2010) — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009-2010. Т. 1-17. 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 с.
- О цели и предметах (1821) — О цели и предметах предлагаемого Христианского Чтения // Христианское чтение. 1821. Ч. 1. С. 3-28.
- Сборник постановлений (1864) — 1825. Мая 14. Об отобрании от всех духовных училищ, мест и лиц книг, заключающих в себе учения, противные вере и благочестию // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Санкт-Петербург: В типографии Императорской Академии наук, 1864. Т. 1. Стб. 1624-1630.
- Хомяков (1991) — Хомяков А.С. Политические письма 1848 года / Публ. и примеч. В. А. Кошелева // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 109-132.
- Бердяев (1937) — Бердяев Н.А. Ортодоксия и человечность. (Прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия. 1937. YMCA-FRESS) // Путь. Орган русской религиозной мысли / Под ред. Н. А. Бердяева, при уч. Б. П. Вышеславцева. 1937. Апрель-июль. № 53. С. 53-65.
- Виноградов (2000) — Виноградов И.А Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 448 с.
- Виноградов (2003) — Виноградов И.А Первый биограф Гоголя // Кулиш П.А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем / Изд. подг. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 3-81.
- Виноградов (2016) — Виноградов И.А. Святые «Вечера.»: «Услаждение и назидательность» «Ночи перед Рождеством» // Русская словесность. 2016. № 2. С. 41-48.
- Виноградов (2017-2018) — Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). С родословной летописью (1405-1808). Научн. изд.: в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 20172018. 736 + 672 + 672 + 704 + 928 + 656 + 640 с.
- Виноградов (2020) — Виноградов И.А Психологизм Н.В. Гоголя // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 4. С. 6-73.
- Виноградов (2021а) — Виноградов И.А Н. В. Гоголь и цензура. Взаимоотношения художника и власти как ключевая проблема гоголевского наследия. М.: ИМЛИ РАН, 2021. 864 с.
- Виноградов (2021Ь) — Виноградов И.А. Неизвестные строки записной книжки Н.В. Гоголя // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т.27. №3. С. 86-91.
- Виноградов (2021с) — Виноградов И.А. «Арабески» Н.В. Гоголя: единство проблематики и композиции цикла // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 4. С. 234-304.
- Виноградов (202Ы) — Виноградов И.А. А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь: проблема взаимоотношений // Русско-Византийский вестник. 2021. № 1 (4). С. 32-69.
- Воропаев (1981а) — Воропаев В. А. «Замкни речь пословицей». Народнопоэтическая стихия в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Литературная учеба. 1981. № 4. С. 172-179.
- Воропаев (1981Ь) — Воропаев В.А. «Мертвые души» и традиции народной культуры (Н. В. Гоголь и И. М. Снегирев) // Русская литература. 1981. № 2. С. 92-107.
- Десницкий (1930) — Десницкий В.А. О пределах спецификации в литературной науке // В борьбе за марксизм в литературной науке: Сб. статей. Л.: Прибой, 1930. С. 7-46.
- Ерофеев (1926) — Ерофив Ив. Новый рукопис Гоголя. (З рукописного вщдшу Музею Слободсь^ Украши) // Червоний Шлях. Харьюв, 1926. № 2. С. 175-176.
- Завитневич (1902а) — Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков. Киев: Типография И. И. Горбунова, 1902. Т. 1. Кн. 1. 866 с.; Т. 1. Кн. 2. 1422 с.; Киев: Типиография Акционерного Общества «Петр Барский в Киеве», 1913. Т. 2. 809 с.
- Завитневич (1902Ь) — Завитневич В. Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца / Под ред. Н. П. Дашкевича. Киев: Типография Р. К. Лубковского, 1902. Отд. II. С. 338-424.
- Киселев (2007) — Киселев В. Н. Исследователь внимательный и трудолюбивый. О жизни и деятельности историка и богослова, профессора В. З. Завитневича / По благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Минск: Издатель В. П. Ильин, 2007. 384 с.
- Паламарчук (1990) — Паламарчук П. Г. Узор «Арабесок» // Гоголь Н. В. Арабески / Подг. текстов, послесл., примеч. П. Паламарчука; художник Ю. Селивёрстов. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 378-390.
- Петров (1884) — [Петров Н. И.] Очерки истории украинской литературы Х1Х столетия Н. И. Петрова. Киев: В типографии И. и А. Давиденко, 1884. 457 с.
- Петров (1902а) — Петров Н.И. Следы литературных влияний в произведениях Н. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. № 4. С. 561-575.
- Петров (1902Ь) — Петров Н.И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. № 6. С. 270-317.
- Петров (1902с) — Петров Н.И. Южно-русский элемент в ранних произведениях Н. В. Гоголя // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца / Под ред. Н. П. Дашкевича. (Чтения в Историческом Обществе Нестора-Летописца. Кн. XVI.) Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 1902 1903. Отд. 3. С. 53-72.
- Расев (2017) — Расев А.И., прот. Очерк жизни в Бозе почившего Ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского. Сводная редакция (1860-1890-1915). Некоторые его проповеди, несколько писем, писанных — или им, или к нему, и еще некоторые замечательные факты из частной его жизни. Тверь: Б. и., 2017. 496 с.
- Соколов (1910) — Соколов Б.М. Гоголь-этнограф. (Интересы и занятия Н.В. Гоголя этнографией). М.: Тип. Императорского Московского Университета, 1910. 61 с.
- Флоровский (1937) — Флоровский Г, прот. Пути русского богословия. Париж; Типография «Светлост», Београд, 1937. 574 с.
- Флоровский (1991) — Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. 3-е изд. / С пре-дисл. прот. И. Мейендорфа и указателем имен. Париж: YMCA-PRESS, 1983 (репринтное переиздание — Киев: Христианско-благотворительная ассоциация «Путь к истине»; Поли-графкнига, 1991). 600 с.
- Чаговец (1901) — Чаговец В. На родине Гоголя. (Реликвии) // Киевская Газета. 1901. 21 окт. №291. С. 4.