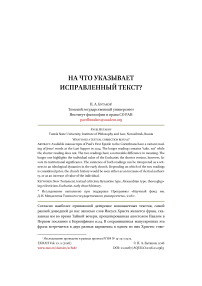На что указывает исправленный текст?
Автор: Бутаков Павел Александрович
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 2 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В сохранившихся манускриптах Первого послания Павла к Коринфянам слова Христа в стихе 11:24 встречаются в двух разных вариантах: в одном из них есть слова «приимите, ядите», а в другом их нет. Между этими двумя вариантами есть значительное смысловое различие. Расширенный вариант подчеркивает индивидуальный аспект Евхаристии, а краткий, напротив, институциональный. Существование этих двух вариантов может послужить важным свидетельством о динамике идейных трансформаций, происходивших в древней церкви. В зависимости от того, какой вариант считать исходным, а какой исправленным, история ранней церкви будет рассматриваться либо как процесс клерикализации, либо как индивидуализации.
Новый завет, критика текста, византийский тип, александрийский тип, последовательный эклектицизм, евхаристия, история ранней церкви
Короткий адрес: https://sciup.org/147103477
IDR: 147103477
Текст научной статьи На что указывает исправленный текст?
* Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд им. Д. И. Менделеева Томского государственного университета», 2016 г.
Согласно наиболее признанной датировке новозаветных текстов, самой ранней дошедшей до нас записью слов Иисуса Христа является фраза, сказанная им во время Тайной вечери, процитированная апостолом Павлом в Первом послании к Коринфянам 11:24. В сохранившихся манускриптах эта фраза встречается в двух разных вариантах; в одном из них Христос гово- рит: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание»,2 а в другом: «Сие есть Тело Мое за вас; сие творите в Мое воспоминание». Появление разных вариантов данного текста может оказаться важным свидетельством о трансформации мировоззрения в древней церкви. Настоящая работа будет посвящена обсуждению первого из двух разночтений в данной фразе – словам «приимите, ядите». Дискуссия по поводу второго разночтения – слова «ломимое» – не входит в рамки данного исследования. Методологическим основанием исследования является принцип критики текста, получивший название «последовательного эклектицизма» (thoroughgoing eclecticism), применяемый с точки зрения идейных предпочтений переписчика. При этом целью работы является не реконструкция оригинального текста, а рассмотрение причин, приведших к возникновению разночтения.
Прежде чем перейти к анализу интересующей нас фразы 1 Кор. 11:24, необходимо сделать несколько общих замечаний о научной критике текста Нового Завета. На сегодняшний день обнаружены десятки тысяч манускриптов с новозаветными фрагментами, из них более пяти тысяч содержат греческий текст (Metzger 2005, 50). Количество разночтений между всеми этими источниками в сумме достигает сотен тысяч, и хотя подавляющее большинство из них является несущественными, тем не менее, имеется значительное число расхождений, все же затрагивающих смысл текста. Основная масса дошедших до нас манускриптов имеет византийское происхождение и содержит «византийский тип текста», и расхождения между этими византийскими рукописями не столь существенны. Однако сохранились и другие типы текста, например, «александрийский» и «западный», которые представлены в десятки раз меньшим числом манускриптов, чем «византийский», и их отличие от «византийского» текста уже гораздо серьезнее, чем незначительные разногласия между византийскими рукописями. Долгое время как в церковной среде, так и среди ученых, приоритетным считался именно византийский тип текста. Его авторитетность была связана с тем, что этот текст цитировали греческие отцы церкви, и что этот текст находился в непрерывном употреблении в византийской церковной жизни. Вдобавок, как уже было сказано, большинство сохранившихся рукописей содержат именно византийский тип текста, из-за чего он получил название
«Текст большинства». Этот тип текста был использован Эразмом Роттердамским при создании его Textus Receptus , с которого Новый Завет был переведен на европейские языки, как, например, в немецкой Библии Лютера или в английской Библии короля Иакова. Распространенные в России церковнославянский и русский Синодальный переводы также сделаны с византийского текста.
Тем не менее, начиная со второй половины XIX века исследователи Нового Завета все больше обращают внимание не на византийский, а на «александрийский» тип текста, представленный, в первую очередь, такими авторитетными и древними рукописями, как Синайский, Ватиканский и Александрийский3 кодексы. В задачу данной работы не входит оценка авторитетности византийского или александрийского текстов, и мы не станем перечислять аргументы сторонников той или иной традиции. Следует, однако, констатировать тот факт, что на сегодняшний день большинство ученых отдают предпочтение александрийскому тексту, и именно на нем основываются современные критические издания Нового Завета Нестле-Аланда и Объединенных Библейских обществ (Petersen 1994, 138).
Современная критика новозаветных текстов основана на эклектическом подходе, который иногда принято называть «рациональной критикой». Вместо того чтобы оценивать достоинство каждой рукописи и затем отдавать предпочтение наилучшей рукописи как наиболее близкой к утраченному оригинальному тексту, исследователи анализируют достоинство отдельных фрагментов текста на основании «внешних» или «внутренних» свойств множества рукописей. Полученный в результате эклектичный текст не будет полностью совпадать ни с одним из имеющихся манускриптов, но будет представлять собою компиляцию наилучших вариантов фрагментов из разных источников. Под «внешними» свойствами подразумеваются возраст, географическое происхождение, а также количество сохранившихся аналогов4 и «семейная принадлежность» манускрипта. К «внутренним» свойствам относятся язык и стиль автора, смысловой контекст фрагмента и индивидуальные особенности переписчика. Эклектический метод, учитывающий как внешние, так и внутренние факторы, получил название «моти- вированного эклектицизма»5 (reasoned eclecticism), а метод, учитывающий лишь внутренние факторы, принято называть «последовательным эклекти-цизмом»6 (thoroughgoing eclecticism) (Metzger 2005, 223).
Цель эклектического исследования, особенно в случае последовательного эклектицизма, не всегда сводится лишь к реконструкции оригинального текста, хотя такая реконструкция вполне может быть проделана на основании этого метода. Чаще исследователей интересуют сами разночтения и возможные причины их появления. Особый интерес вызывают те случаи, когда изменения в тексте возникают не по небрежности переписчика, а в результате его осознанного решения. К таким решениям относятся попытки грамматического и стилистического улучшения текста: исправление предполагаемых ошибок или, например, замена просторечных слов изящными синонимами и внедрение аттицизмов. К этой же категории относится кон-фляция, когда переписчик, имея на руках две рукописи с разными прочтениями одного и того же фрагмента, переносит в свой текст оба варианта. Сюда же следует отнести стремление к гармонизации, т. е., приведению к единообразию параллельных и сходных фрагментов, а также вставку поясняющих слов в речевые обороты, кажущиеся незавершенными. Наконец, переписчики иногда исправляли то, что считали ошибкой в именах и названиях, или вносили в текст дополнительные уточняющие имена (Metzger 2005, 261–271).
Пожалуй, наибольший интерес представляют те разночтения, которые связаны с концептуальным исправлением текста, приведением его в соответствие с теологическими или какими-либо иными теоретическими установками переписчика. Такие исправления могут послужить «окнами в историю» (Ehrman 1995), и позволяют сделать выводы об интеллектуальных и социальных процессах, происходивших в раннем христианстве. Долгое время исследователи Нового Завета единодушно настаивали на том, что ни одно из име- ющихся разночтений никак не затрагивает доктринального содержания Писания, или, по крайней мере, основного доктринального содержания (Wallace 1991, 157). Однако в середине XX века это единодушие было нарушено теми учеными, которые полагали, что переписчики, «вдохновленные своим пониманием христианского вероучения, обрели свободу вносить изменения в текст, чтобы донести это понимание до остальных» (Clark 1953, 54–55). С тех пор было выявлено и проанализировано немало исправлений в новозаветных рукописях, обусловленных доктринальными, социальными и иными культурными факторами (Metzger 2005, 282–299).
Теперь перейдем к рассмотрению интересующего нас текста. Мы проанализируем два имеющихся варианта слов Христа в 1 Кор. 11:24 в рамках методологии последовательного эклектицизма. Это значит, что перед нами не стоит задача оценить достоинство манускриптов, содержащих этот фрагмент, и мы не станем опираться на внешние текстологические факторы. Мы также не намерены делать выводов о том, что же на самом деле сказал Христос во время Тайной вечери, или что же на самом деле написал апостол Павел. Мы сосредоточим свое внимание на тех причинах, доктринальных или социальных факторах, благодаря которым это разночтение могло возникнуть и получить распространение. Проще говоря, коль скоро в одном варианте содержатся слова «приимите, ядите», а в другом их нет, то нас интересует то, какие соображения могли побудить переписчика либо удалить, либо, наоборот, добавить их в текст.
Следует сразу же отметить, что расширенный вариант 1 Кор. 11:24, включающий слова «приимите, ядите», встречается более чем в 550 рукописях, которые, в целом, содержат «византийский» тип текста; рукописей с кратким вариантом насчитывается около 60, и это, в основном, тексты «александрийского» и «западного» типов (Kloha 2006, III, 1065–1066). Далее для краткости мы будем называть расширенный вариант «византийским», а краткий «александрийским».7
Где еще в ранних христианских источниках встречаются аналогичные цитирования слов Христа во время Тайной вечери? Во-первых, в синоптических Евангелиях – от Матфея, Марка и Луки, и, во-вторых, в древних богослужебных текстах евхаристической литургии. Ни в одном из Евангелий нет расширенной версии слов Христа, совпадающей с византийским вариантом 1 Кор. 11:24. У Матфея и Марка есть слова «приимите, ядите» (Мф. 26:26, Мк. 14:22),8 но нет фразы «сие творите в Мое воспоминание». У Луки, напротив, есть фраза «сие творите…» (Лк. 22:19), но нет слов «приимите, ядите», так же, как и в александрийском варианте 1 Кор. 11:24. Древние греческие евхаристические литургии в данном случае повторяют схему Матфея и Марка, а не Луки и александрийской версии 1 Кор. 11:24: в них перед фразой «сие есть Тело Мое» есть слова «примите, ядите», но после нее нет слов «сие творите в Мое воспоминание».9
Таким образом, византийский вариант 1 Кор. 11:24 представляет собой уникальный текст, аналогов которому нет ни в Евангелиях, ни в греческих литургиях. Только в нем слова «приимите, ядите» соседствуют с фразой «сие творите в мое воспоминание». Во всех остальных источниках, включая александрийский вариант 1 Кор. 11:24 такого совмещения нет, но есть либо слова «приимите, ядите», либо «сие творите…». Складывается впечатление, что византийский текст противоречит общей тенденции и представляет собой некую альтернативную концепцию. Так ли это? Какие концептуальные отличия влечет за собой совмещение слов «приимите, ядите» с фразой «сие творите…»? Для ответа на этот вопрос нам необходимо проанализировать смысл всего изречения Христа целиком как в византийском варианте 1 Кор. 11:24, так и в александрийском.
В византийском варианте Христос во время вечери с учениками, взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, преломляет его и говорит: «Прии-мите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое. Сие творите в Мое воспоминание». К чему здесь относятся слова «сие творите» (τοῦτο ποιεῖτε)? Очевидно, что к императивам «приимите, ядите». Другими словами, Христос дает ученикам хлеб, который есть Его Тело, и велит им взять его и съесть здесь и сейчас в память о Нем. Исполнением Его повеления «сие творите» является однократный акт «принятия» и «ядения».
В александрийском варианте Христос, взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, преломляет его и говорит: «Сие есть Тело Мое за вас. Сие творите в Мое воспоминание». К чему же здесь относится повеление «сие творите»? По-видимому, к тем действиям, которые Он только что совершил. Указательное местоимение «сие» (τοῦτο) может относиться либо ко всем пе- речисленным действиям, либо к тому, которое расположено ближе всего к нему – к произнесению фразы «сие есть Тело Мое за вас».10 В любом случае, Христос велит ученикам повторять эти же самые действия в будущем в память о Нем.
Конечно же, эти два варианта не являются взаимоисключающими: и совершение Евхаристических ритуальных действий учениками Христа, и вкушение этого таинства всеми причастниками могут совершаться в память о Нем. Тем не менее, в них заложены разные смысловые акценты. Византийский вариант относится к каждому участнику евхаристической трапезы, а александрийский – только к тем, кто проводит эту трапезу, т. е., к клирикам. Византийский вариант – это разъяснение мемориальной сути происходящей трапезы, а александрийский – это учреждение будущего повторяющегося мемориального ритуала. Согласно византийскому варианту, исполнение повеления Христа заключается в поедании трапезы ее участниками, в то время как александрийский вариант возлагает всю ответственность на клириков, которые должны строго соблюсти последовательность ритуальных действий. В итоге можно утверждать, что византийский вариант нацелен на индивидуальный аспект таинства, а александрийский – на институциональный.
Теперь перед нами стоит вопрос о том, какие причины могли привести к возникновению и распространению этого разночтения. Во-первых, это могла быть обычная небрежность переписчика. Во-вторых, здесь возможна непреднамеренная или намеренная гармонизация этого фрагмента с параллельными фрагментами из синоптических Евангелий: вставка слов «приимите, ядите» для гармонизации с Евангелием от Матфея11 или, наоборот, удаление этих слов ради сходства с Евангелием от Луки, в зависимости от того, какой из двух вариантов считать исходным, а какой исправленным. В-третьих, здесь можно предположить влияние богослужебной традиции, т. е. приведение текста в соответствие с той литургической формулой, которая была привычной для переписчика. Такой сценарий является весьма ма-ловероятным,12 хотя, все же, возможным.13 Наконец, нельзя не допустить и намеренного исправления текста в соответствии с вышеизложенными идейными установками переписчика.
Даже если исправление текста было непреднамеренным, или даже если сам переписчик не имел каких-то идейных предпочтений в связи с внесенным изменением, его исправление все-таки получило распространение, т. е. оказалось приемлемым для церковного сообщества. А это значит, что каковы бы ни были мотивы переписчика, популярность нового варианта все равно должна была быть обусловлена идейными и социальными факторами. Изменение в священном тексте было принято потому, что люди были к этому готовы. Или, по крайней мере, даже если они были еще не готовы, но не отвергли исправленный текст, изменения в тексте постепенно делали свое дело и оказывали влияние на взгляды сообщества. Так или иначе, распространение исправлений в столь влиятельном тексте позволяет сделать однозначный вывод о распространении новых взглядов и идей.
Как было показано выше, византийский вариант 1 Кор. 11:24 подчеркивает индивидуальное значение таинства Евхаристии для каждого верующего. При этом александрийский вариант, наоборот, не учитывает интереса отдельных верующих и делает упор исключительно на институциональном аспекте таинства. Следовательно, решение о том, какой из вариантов признать исходным, а какой исправленным, отразится на наших представлениях о векторе социальных процессов в раннем христианстве. Если правы сторонники приоритета византийского текста, то это значит, что в ранней церкви на смену греческой индивидуальности постепенно пришел египетский и западный клерикализм, оттесняя интересы простых верующих и возвышая авторитет священноначалия. Если же согласиться с большинством ученых и признать приоритетность александрийского текста, то это будет означать, что первоначально церковное учение о таинстве Евхаристии держалось на признании института апостолов и священнослужителей как представителей и исполнителей повеления Христа, но постепенно гре- употреблялось намного больше, и если бы такое проникновение имело место, то это должно было бы привести к большей вариативности среди манускриптов (Kloha 2006, I, 340).
13 Клоха также считает невероятным намеренное удаление слов «приимите, ядите» из текста 1 Кор. 11:24 на том основании, что эти слова все равно присутствовали во всех литургических формулах и, следовательно, избавляться от них лишь в одном фрагменте не имело смысла (Kloha 2006, I, 349). Тем не менее, как уже было сказано, ни одна из греческих литургических формул, как и ни одна из трех формул в синоптических Евангелиях, не совпадает с византийским вариантом 1 Кор. 11:24, поэтому все-таки следует допустить возможность сценария сокращения исходного текста ради устранения этого отклонения.
ки14 сместили акцент в сторону интересов индивида, превратив таинство в дело личного благочестия. Нам представляется более правдоподобным второй вариант.
Список литературы На что указывает исправленный текст?
- Белоусов, А. В., ред. (2007) Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора: евхаристическая молитва. Москва: Дарь.
- Мецгер, Б. М., Эрман, Б. Д. (2013) Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. Пер. с англ. Д. Браткина. Москва: Издательство ББИ.
- Шумилин, М. В. (2010) «Рецензия на книгу: P. Papinius Statius: Thebaid and Achilleid/By J. B. Hall in collaboration with A. L. Ritchie and M. J. Edwards. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007-2008. 3 vols», Аристей II, 156-172.
- Aland, K., Aland, B. (1995) The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism. Grand Rapids.
- Clark, K. W. (1953) “Textual Criticism and Doctrine,” J. N. Sevenster and W. C. van Unnik, eds. Studia Paulina in Honorem Johannis de Zwaan Septuagenarii. Haarlem, 59-64.
- Ehrman, B. D. (1995) “The Text as Window: New Testament Manuscripts and the Social History of Early Christianity,” B. D. Ehrman and M. W. Holmes, eds. The Text of the New Testament in Contemporary Research: Essays on the Status Quaestionis. Grand Rapids, 361-79.
- Kilpatrick, G. D. (1965) “The Greek New Testament Text of Today and the Textus Receptus,” H. Anderson and W. Barclay, eds. The New Testament in Historical and Contemporary Perspectives. Essays in Memory of G. H. C. MacGregor. Oxford, 189-208.
- Kloha, J. J. (2006) A Textual Commentary on Paul's First Epistle to the Corinthians. Leeds.
- Metzger, B. M., Ehrman, B. D. (2005) The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration. New York.
- Petersen, W. L. (1994) “What Text Can New Testament Textual Criticism Ultimately Reach?” B. Aland and J. Delobel, eds. New Testament Textual Criticism, Exegesis and Church History: A Discussion of Methods. Kampen, 136-151.
- Wallace, D. B. (1991) “The Majority Text and the Original Text: Are They Identical?” Bibliotheca Sacra 148, 151-169.
- Zuntz, G. (1953) The Text of the Epistles. A Disquisition upon the Corpus Paulinum. London.