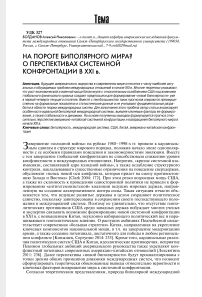На пороге «биполярного мира»? О перспективах системной конфронтации в XXI в
Автор: Богданов Алексей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
Будущее американского лидерства в современном мире относится к числу наиболее актуальных и обсуждаемых проблем международных отношений в начале XXI в. Многие теоретики указывают, что рост экономической и военной мощи Китая вкупе с относительным ослаблением США под влиянием глобального финансового кризиса создают предпосылки для формирования «новой биполярности» уже в первой четверти текущего столетия. Вместе с тем большинство таких прогнозов опираются преимущественно на формальные показатели и статистические данные и не учитывают фундаментальные разработки в области теории международных систем. Для заполнения этого пробела автор статьи анализирует особенности идеальной биполярной международной системы, выявляя ключевые факторы ее формирования, а также стабильности и динамики. На основе полученных выводов формулируется прогноз относительно перспектив американо-китайской системной конфронтации и возвращения «биполярного мира» в начале XXI в.
Биполярность, международная система, сша, китай, американо-китайская конфронтация
Короткий адрес: https://sciup.org/170167823
IDR: 170167823 | УДК: 327
Текст научной статьи На пороге «биполярного мира»? О перспективах системной конфронтации в XXI в
З авершение «холодной войны» на рубеже 1980–1990-х гг. привело к кардинальным сдвигам в структуре мирового порядка, положив начало эпохе однополярности с ее особыми правилами поведения и закономерностями эволюции. Вместе с тем завершение глобальной конфронтации не способствовало снижению уровня конфликтности в международных отношениях. Напротив, «кризис системной взаимосвязи, составлявшей ядро холодной войны», а также ослабление структурного контроля, накладывавшего существенные ограничения на поведение сверхдержав, обусловили «поиск новой оси конфликта, которая придет на смену противостоянию Запада и Востока» [Clark 2004: 172]. При этом резко возросшая мощь США, а также их склонность к проведению односторонней политики не привели к формированию «антигегемонистской» коалиции ведущих мировых держав, направленную на создание альтернативного центра силы. Такая ситуация отчасти объясняется тем, что ведущие развитые державы в целом сохраняют политическое единство, поскольку заинтересованы в сохранении своего господствующего положения в международной системе. Поэтому не удивительно, что отсутствие геополитических противников США среди западных держав побуждает многих ученых и экспертов связывать возможное формирование новой системной конфронтации в XXI в. с возвышением Китая, неуклонно набирающего политический вес и наращивающего геополитическое влияние. О растущих амбициях Поднебесной свидетельствует современная «большая стратегия» Китая, направленная на укрепление ключевых компонентов национальной мощи, в т.ч. на завершение модернизации армии, а также создание потенциала, достаточного для победы в любом региональном конфликте [Конышев, Сергунин 2014: 235]. Кроме того, кардинальные различия политических систем США и Китая, идеологические противоречия, неприятие Пекином глобальных амбиций американского руководства также укрепляют конфликтный потенциал современных американо-китайских отношений [Лексютина 2011: 236]. Далее перспективы «новой биполярности» будут проанализированы с точки зрения общих принципов динамики международных систем, что позволит сформулировать теоретически обоснованные выводы относительно вероятности и ключевых факторов возвращения мира к системной конфронтации.
Согласно теоретическим представлениям, природа биполярной международной системы является структурно детерминированной, поскольку ее определяющую черту составляет специфический способ распределения материальной мощи между двумя сверхдержавами, «каждая из которых способна защитить себя от любой комбинации других государств» [Waltz 2010: 89]. Некоторые исследователи находят примеры биполярного противостояния еще во времена античности. Так, Р. Гилпин, опираясь на идейное наследие Фукидида, анализировал противостояние Афин и Спарты в VI в. до н.э., пытаясь сформулировать обобщения, применимые к современной международной системе. Анализируя условия формирования биполярности, он исходил из того, что «начальной фазой является относительно устойчивая международная система, характеризующаяся иерархическим порядком государств в системе». Со временем, однако, «сила менее могущественного государства начинает расти непропорционально, и это растущее государство приходит к конфликту с державой, доминирующей в системе». Результатом является «биполяризация» системы, что приводит к ее неизбежному кризису и, в конечном итоге, войне за гегемонию, заканчивающейся победой одной из сторон и формированием новой международной системы [Gilpin 1988: 595]. Несколько иное определение биполярной системы дает отечественный исследователь А.Д. Богатуров, рассматривающий ее как «структуру международных отношений, которая опирается на отрыв только двух каких-либо держав от остальных членов мирового сообщества по совокупности своих военно-силовых, экономических, политических, идеологических и иных возможностей» [Богатуров 1993: 30]. Такая формулировка принимает за основную черту биполярности наличие крупного разрыва в возможностях между двумя сверхдержавами и остальными странами [Богатуров, Косолапов, Хрусталев 2002: 285], т.е. абсолютизирует структурные аспекты этого понятия. Вместе с тем всесторонний анализ природы биполярной системы предполагает учет особенностей биполярной структуры, заключающейся в том, что «два могущественных государства контролируют и регулируют взаимодействия внутри и между своими сферами влияния» [Gilpin 1983: 29]. В этом смысле способность сверхдержав определять «правила игры» внутри создаваемых ими союзов и блоков свидетельствует о наличии нормативного измерения их власти. Поэтому анализ природы биполярной системы, предпосылок ее стабильности и динамики должен также учитывать неструктурные факторы и ограничения.
С точки зрения системной стабильности важнейшей особенностью биполярной системы является сбалансированность, обусловленная структурным доминированием двух сверхдержав. При этом, однако, биполярная система имеет ряд отличий от классической системы баланса сил. В частности, в биполярной системе могут участвовать наднациональные акторы (военно-политические блоки или универсальные организации). Кроме того, в биполярной системе существенно меняется роль государства-балансира, которое не присоединяется к той или иной противоборствующей стороне (как это происходит в системе баланса сил), а выступает в качестве посредника между соперничающими сторонами [Kaplan 1957: 691]. Как следствие, меняются условия сохранения системной стабильности, которая оказывается зависимой не столько от меняющихся конфигураций международных коалиций и союзов, сколько от взаимоотношений между доминирующими державами, их реакции на поведение друг друга, восприятия угроз и т.д.
Если попытаться обобщить существующие теоретические аргументы в пользу устойчивости биполярной системы, то можно назвать несколько ключевых факторов ее стабильности. Во-первых, колоссальный разрыв между экономическим и военным потенциалом сверхдержав и возможностями второстепенных государств минимизирует вероятность сопротивления со стороны последних и придает биполярному балансу силу и высокую степень устойчивости. В биполярной системе менее могущественные державы не имеют ни возможностей, ни стимулов прибегать к уравновешивающим стратегиям, поскольку присоединение к одной из доминирующих держав связано с меньшими издержками, чем любая форма сопротивления. С этой точки зрения уравновешивание как реакция на усиление конкурирующей сверхдержавы не является предметом обеспокоенности и тревоги для государств-сателлитов, пользующихся всеобъемлющими гарантиями безопасности со стороны сверхдержавы-покровителя. Напротив, стратегии балансирования фактически переходят в исключительную компетенцию сверхдержав, реализующих их в отношении друг друга. При этом, как свидетельствует опыт «холодной войны», в условиях биполярности уравновешивающие стратегии приобретают жесткий характер и реализуются в виде наращивания вооружений (в т.ч. не конвенциональных) и формирования открытых формальных союзов (военно-политические блоки). Это приводит к тому, что внутреннее уравновешивание становится главным способом обеспечения системной стабильности. Кроме того, в условиях биполярности системная динамика смещается из периферии в центр, что превращает второстепенные государства в пассивных наблюдателей соперничества сверхдержав, от исхода борьбы между которыми зависит судьба всей международной системы.
Во-вторых, для биполярной системы характерна очень высокая стабильность союзов, равно как и верность государств своим союзническим обязательствам. Этот стабилизирующий фактор обусловлен тем, что присоединение к одной из сверхдержав является для второстепенных государств единственным способом обеспечить свою безопасность. Например, как отмечает М. Эль-Дуфани, в годы «холодной войны» по мере того, как «соперничество СССР и США приобретало глобальный масштаб ‹…› региональные акторы в конфликтных зонах не видели иного выбора, кроме как присоединиться к одной из сверхдержав с тем, чтобы получить материальные средства, а также политическую и дипломатическую поддержку для решения региональных проблем или защиты от агрессивных соседей…» [El-Doufani 1992: 257]. Иными словами, если в условиях многополярности (когда несколько великих держав способны претендовать на гегемонию) неизбежны гибкие, часто меняющие состав участников коалиции, то при биполярности союзы оказываются сверхстабильными, т.к. есть лишь две сверхдержавы, претендующие на системное доминирование. Биполярность, как следствие, формирует у участников системы высокую верность союзническим обязательствам, как это было, например, в эпоху «холодной войны», когда, несмотря на возникавшие время от времени противоречия внутри противостоящих блоков, их состав оставался практически неизменным. Поэтому биполярный баланс сил опирается на логику фиксированных союзов, предполагающую устойчивую лояльность внутри своего рода «нуклеарных семей», в рамках которых «ситуация, когда один из членов примыкал к другой “семье”, была просто немыслима» [Fierke 2002: 342]. Можно сказать, что с точки зрения соображений национальной безопасности изменение союзнических предпочтений в условиях биполярности лишено смысла, поскольку угрозы крайне статичны и могут измениться только в том случае, если изменится вся структура распределения мощи (в направлении одно- или многополярности). В целом, в условиях биполярности «союз стабилен, потому что он является порождением структуры системы и следствием общих интересов в области безопасности» [Snyder 1984: 485]. А поскольку угрозы безопасности в биполярной системе хорошо известны, могут быть однозначно идентифицированы и практически не меняются со временем, то системная стабильность оказывается тесно связанной с тем, как эти угрозы воспринимаются доминирующими державами и второстепенными акторами.
В-третьих, как следствие, одним из ключевых факторов стабильности биполярной системы является отсутствие неопределенности относительно источника внешней угрозы. Так, в многополярных системах великие державы склонны рассматривать друг друга в качестве потенциальных противников и врагов в будущих военных конфликтах, что провоцирует частые перегруппировки в рамках существующих союзов и создает предпосылки дестабилизации международной системы. В условиях биполярности, напротив, враждующие стороны и, соответственно, источники угроз всегда четко и однозначно определены [Waltz 2010: 171]. Поэтому вероятность внешнеполитических просчетов, обусловленных нехваткой достоверной информации об окружающем мире и в особенности о намерениях других акторов, существенно снижается.
В-четвертых, как это ни парадоксально, несмотря на свою конфронтационную природу, биполярность способствует развитию сотрудничества (особенно в военной сфере) между сверхдержавами. Это обусловлено тем, что «небольшому количеству акторов легче вырабатывать и поддерживать “правила игры” и сохранять сферы влияния» [Баталов 2005: 157]. В этом смысле биполярность облегчает создание кооперативных режимов, обеспечивающих контроль над проблемными сферами международного взаимодействия, а также более эффективное разрешение региональных конфликтов. Однако в том случае, если между сверхдержавами существуют серьезные идеологические противоречия, это негативно сказывается как на перспективах сотрудничества между ними, так и на системной стабильности в целом. С этой точки зрения разрядка в советско-американских отношениях в 1960–70-х гг., и особенно в конце 1980-х гг., может рассматриваться как следствие «когнитивной конвергенции» [Miller 1995: 41], отражающей тенденцию к изменению восприятия угроз и намерений друг друга соперничающими сверхдержавами, их элитами и общественностью.
И наконец, в-пятых, залогом стабильности биполярной системы является ее иерархическая структура, отличающаяся способностью сопротивляться изменениям и внешним шокам. Поскольку в условиях биполярности существуют только две доминирующие державы, то структурная иерархия всей международной системы является ясной и однозначной. Как следствие, второстепенные державы не ощущают неудовлетворенности своим положением, что побуждает их избегать ревизионистских стратегий поведения. При этом сверхдержавы со своей стороны стремятся к установлению и поддержанию иерархии, а также укреплению собственного лидерства. Поэтому менее могущественные государства в условиях конфронтации двух доминирующих держав, как правило, предпочитают неустойчивый статус-кво, «в котором никто не может добиться доминирования ввиду постоянного уравновешивания со стороны другой державы» [Wohlforth 2009: 40]. Системная стабильность, таким образом, обеспечивается благодаря структурной устойчивости биполярной системы и согласию второстепенных государств со сложившейся иерархией статусов.
Что касается динамики биполярной системы, то предпосылки ее трансформации обусловлены главным образом изменениями в структуре распределения материальной мощи между сверхдержавами. Поэтому способность сверхдержав обеспечивать стабильность своих союзов и контроль над сферами влияния, а также наращивать экономическую и военную мощь, создавая тем самым силовые противовесы друг другу, решающим образом влияет на устойчивость биполярной системы. С этой точки зрения ключевым фактором успеха становится способность сверхдержав извлекать необходимые материальные ресурсы для реализации стратегий «внутреннего» и «внешнего» уравновешивания, сохраняя при этом жизнеспособность собственной социально-экономической системы.
В то же время нематериальные и субъективные факторы также способны оказывать существенное влияние на динамику экономической и военной мощи сверхдержав, провоцируя их на непропорциональное или необоснованное применение военной силы, а также нерациональное использование ресурсов. Так, в условиях биполярности для конкурирующих сверхдержав характерно гипертрофированное восприятие угроз, в результате чего события даже в самых отдаленных точках земного шара могут стать предметом их крайней обеспокоенности и даже военного вмешательства. В годы «холодной войны», например, это было обусловлено восприятием региональных политических или территориальных изменений в терминах американо-советского стратегического соперничества. Как следствие, когда граница безопасности между СССР и США стала глобальной, сверхдержавы все чаще стали прибегать к тактике отождествления региональных процессов с их собственными интересами [El-Doufani 1992: 257], что повлекло их активное вмешательство в локальные политические процессы. Эту особенность биполярной системы К. Уолтц охарактеризовал как «отсутствие периферии», провоцирующее немедленную реакцию сверхдержав на любой кризис или непредвиденные события в странах третьего мира [Waltz 2010: 171]. В результате обе сверхдержавы, вынужденные регулярно вмешиваться в локальные конфликты, оказываются подверженными перенапряжению, их ресурсы истощаются и формируются предпосылки системной динамики в направлении многополярности.
Рассмотренные теоретические аспекты формирования и функционирования биполярных международных систем позволяют сделать несколько важных обобщений относительно перспектив возвращения биполярного мира в начале XXI в. Во-первых, вероятность наступления «новой биполярности» во многом зависит от эволюции системы союзов США и перспектив появления подобной системы у Китая. Устойчивость доминирующего положения США в современном мире во многом обеспечивается в глобальной системой союзов, сохранившейся со времен противостояния с СССР и продолжающей обеспечивать региональную безопасность и стабильность в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Чтобы бросить успешный вызов американскому лидерству, Китай должен продемонстрировать способность предоставлять гарантии безопасности менее могущественным государствам если не в глобальном масштабе, то хотя бы на региональном уровне. С этой точки зрения шансы Китая стать второй сверхдержавой в обозримом будущем представляются туманными, поскольку некоторые государства региона (Япония, Южная Корея) рассматривают его скорее как источник угрозы и нестабильности, чем как гаранта безопасности. Как следствие, наращивание мощи Китая воспринимается в регионе с большой настороженностью, порождая попытки уравновешивания, в т.ч. и с помощью США как «нерегионального гегемона». При таких обстоятельствах проецирование мощи и борьба за сверхдержавный статус (при условии наличия таких намерений) становится для китайского руководства крайне сложной задачей. В то же время использование потенциала Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и развитие военно-технического взаимодействия с Россией (как в рамках ШОС, так и на двусторонней основе) в перспективе может позволить Китаю создать мощный региональный альянс, способный поддерживать приемлемый уровень международной безопасности в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. С этой точки зрения ШОС, будучи многосторонней организацией, позволяет не только привлекать новых участников, заинтересованных в урегулировании региональных проблем безопасности, но также смягчать и сдерживать растущую мощь Китая. Для России Китай также представляется перспективным стратегическим союзником, особенно в контексте резкого охлаждения отношений с США и Европейским союзом на фоне украинского кризиса. Вместе с тем необходимо признать, что будущее российско-китайского союза будет оставаться туманным до тех пор, пока не разрешится вопрос о лидерстве в рамках такого альянса. На сегодняшний день представляется очевидным, что геополитические амбиции обеих держав скорее препятствуют, нежели способствуют объединению России и Китая в рамках военно-политического блока или двустороннего союза.
Во-вторых, наступление в будущем американо-китайской (или любой другой) биполярности предполагает, что ради обеспечения собственной национальной безопасности второстепенные государства будут стремиться продемонстрировать лояльность одной из сверхдержав. Вместе с тем очевидно, что в современном мире угрозы безопасности носят преимущественно транснациональный характер, и противодействие этим угрозам путем присоединения к тому или иному военнополитическому блоку или союзу не может обеспечить успешное решение проблем такого рода. Как уже было отмечено выше, в силу того что в условиях биполярности угрозы очевидны и их источники ясны, союзы и блоки, равно как и вся система, сохраняют стабильность. В современных же мирополитических реалиях, когда наиболее серьезные угрозы и вызовы исходят не от национальных государств, а от транснациональных акторов (международный терроризм) и глобальных проблем (энергетические, демографические, миграционные и др.), сама логика биполярности оказывается поставленной под сомнение. Даже если структура международной системы будет эволюционировать в направлении биполярности, реакция второстепенных государств на такую динамику не будет столь же предсказуемой, как в годы «холодной войны», поскольку восприятие угроз в современном мире является гораздо более сложным и неоднозначным.
В-третьих, биполярность предполагает идеологическую конфронтацию, основой которой является стремление сверхдержав навязать миру свое видение социальноэкономического развития и прогресса. В этом отношении США по-прежнему сохраняют беспрецедентную монополию, выражающуюся в глобальном дискурсивном доминировании (неолиберализм, глобализм), а также в способности формулировать «правила игры» и контролировать ключевые международные организации и институты. С этой точки зрения возможности Китая как потенциальной сверхдержавы являются весьма ограниченными, поскольку, несмотря на усиливающийся скептицизм в отношении неолиберальных рецептов экономического роста, либеральные ценности по-прежнему преобладают в политике и экономике значительного числа государств мира. В институциональном отношении КНР также может претендовать пока только на статус региональной державы, лидерство которой отнюдь не является бесспорным.
Наконец, в-четвертых, даже в случае сближения США и Китая (или другой державы) в области материальных возможностей и последующих структурных изменений, превращение существующей международной системы в двухполюсную конфигурацию невозможно без достижения какой-либо из возвышающихся держав сверхдержавного статуса. Так, свойственное биполярности разделение мира на сферы влияния, подконтрольные сверхдержавам, предполагает способность последних выступать в качестве единственного гаранта безопасности второстепенных государств. Наряду с обеспечением безопасности и предоставлением других «общественных благ» доминирующее государство также должно обладать способностью определять основы международного порядка в границах собственных сфер влияния. Привлекательность социально-экономической модели развития, ценностей и идеологии также представляют собой неотъемлемый компонент сверхдержавного статуса. Поэтому кризис современной международной системы с последующим транзитом в направлении биполярности возможен лишь в случае тотального упадка сверхдержавы, включая как материальные (экономические, военные), так и нематериальные (статусные, институциональные, идеологические, дискурсивные) аспекты ее лидерства.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-37-01001.
Список литературы На пороге «биполярного мира»? О перспективах системной конфронтации в XXI в
- Баталов Э.Я. 2005. Мировое развитие и мировой порядок. М.: РОССПЭН. 374 с.
- Богатуров А.Д. 1993. Кризис миросистемного регулирования. -Международная жизнь. № 7. С. 30-40.
- Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. (ред.) 2002. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М.: НОФМО. 380 с.
- Конышев В.Н., Сергунин А.А. 2014. Современная военная стратегия. М.: Аспект Пресс. 272 с.
- Лексютина Я. 2011. Китайский вектор внешней политики Б. Обамы: преемственность и инновации. -ПОЛИТЭКС: политическая экспертиза. № 1. С. 222-236.
- Clark I. 2004. Globalization and Fragmentation. International Relations in the Twentieth Century. New York, Oxford University Press. 232 р.
- El-Doufani M. 1992. Regional Revisionist Client States under Unipolarity. -Third World Quarterly. № 2. Р. 255-265.
- Fierke K. 2002. Links across the Abyss: the Language and Logic in International Relations. -International Studies Quarterly. № 3. Р.
- 331-354. Gilpin R. 1988. The Theory of Hegemonic War. -The Journal of Interdisciplinary History. № 4. P. 591-613.
- Gilpin R. 1983. War and Change in World Politics. N.Y.: Cambridge University Press. 272 p.
- Kaplan M. 1957. Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems. -American Political Science Review. № 3. Р. 684-695.
- Miller B. 1995. When Opponents Cooperate. Great Power Conflict and Collaboration in World Politics. Michigan: University of Michigan Press. 384 p.
- Snyder G. 1984. The Security Dilemma in Alliance Politics. -World Politics. № 4. Р. 461-495.
- Waltz K. 2010. Theory of International Politics. Long Grove, Illinois: Waveland Press. 251 p.
- Wohlforth W. 2009. Unipolarity, Status Competition, and Great Power War. -World Politics. № 1. Р. 5-41.