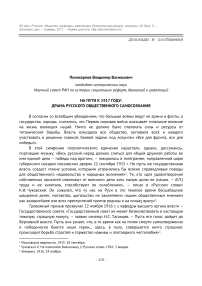На пути к 1917 году: драма русского общественного самосознания
Автор: Поликарпов Владимир Васильевич
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Люди в эпоху перемен
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
Показан разрастающийся в годы Первой мировой войны конфликт реальностей бытия и поведения людей, порождающий раскол российского общества и возникновение взаимного недоверия и ненависти.
Первая мировая война, российское общество, общественное мнение, аристократические и торгово-промышленные круги, дороговизна, стремление к наживе, разгульное поведение, социальная справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/140220714
IDR: 140220714
Текст научной статьи На пути к 1917 году: драма русского общественного самосознания
В согласии со всеобщим убеждением, что большие войны ведут не армии и флоты, а государства, народы, считалось, что Первая мировая война оказывает тотальное влияние на жизнь воюющих наций. Ничто не должно было отвлекать силы и ресурсы от титанической борьбы. Власть взнуздала все общество, заставила всех и каждого участвовать в решении главной, боевой задачи под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
В этой симфонии патриотического единения нарастали, однако, диссонансы, портившие музыку. «Весь русский народ должен слиться для общей дружной работы во имя единой цели – победы над врагом», – говорилось в телеграмме, направленной царю губернским съездом московских дворян 22 сентября 1915 г. Но пусть же государственная власть создаст «такие условия, которыми устранялись бы всякие справедливые поводы для общественного недовольства и народных волнений»1. Те, кто «для удовлетворения собственных прихотей отвлекают от военного дела хоть малую долю ее (нации. – В.П. ) труда и ее капитала, способствуют ее ослаблению», – писал в «Русском слове» К.И. Чуковский. Он сожалел, что «у нас на Руси в это тяжелое время бесшабашное швыряние денег, мотовство, щегольство не заклеймено нашим общественным мнением как зазорнейшее изо всех преступлений против родины и на пользу врагу»2.
Тревожный призыв прозвучал 22 ноября 1916 г. с кафедры высшего органа власти – Государственного совета. «Государственный совет не может безмолвствовать в настоящую тяжелую, страшную минуту, – заявил сенатор Н.С. Таганцев. – Пусть его голос дойдет до Верховной власти. Пусть она узнает, что, в то время как на полях смерти самоотверженно и победоносно бьются наши герои... здесь, в тылу, совершается нечто страшное: происходит борьба страстей и торжество наживы и плотоядного честолюбия»3.
Доклады и сообщения
«Прибывшие с позиций сообщают о необычайном налете к местам недавних боев разного рода хищных птиц, – живописала «Земщина», газета Н.Е. Маркова 2-го. – ...С самого утра до позднего вечера воздух оглашается криком ворон». Их привлекают «лужи крови и неубранные трупы лошадей». В этом же номере газета поместила обращение, поступившее из Парижа: «Мы, русские, живущие в Париже, читаем русские газеты и приходим в ужас... В то время, когда миллионы русских людей жертвуют своею жизнью за родину, армия аршинников и душегубов сдирает шкуры с их близких... В то время, когда на трех фронтах в изобилии льется русская кровь, когда тысячи сирот остаются без средств, находятся бесстыжие русские люди» – «банда черного воронья»4.
Тот же «ужас» внушало «господство животных инстинктов и животных потребностей» органу Синода. Часть христолюбивых соотечественников «стоит перед разверзающейся все более и более пропастью… Уже появились некоторые признаки падения в эту пропасть» – «этот бесшабашный разгул в нашем "глубоком тылу"». Столь «великое нравственное падение... увенчивается... полным пренебрежением к проявлению высших качеств человеческого духа – самоотвержению и готовности всем, что имеем, служить и отечеству и ближним»5.
«Вся страна... болеет, падает духом», – сокрушался известный публицист. Одни «дерутся и умирают за великие идеалы», а другие в это же время «с бесстыдством и наглостью рвут с живья клочья мяса, скопом грабят на пожаре и делают все, чтобы внутри нашего отечества вызвать отчаяние, усталость». Эта «одичавшая собачья стая» – «русский купец, русский банк, русский промышленник»; они сплотились «в один общий заговор против своего же собственного народа». «В бесконечное число раз труднее задача армии, когда позади всю страну обдирают и гасят в ней дух современные Минины, эти вампиры и вурдалаки тыла... Разливом грязных вод подлость и хищничество заполняют всю Русскую равнину»6. «Оргия нашего тыла с зимы 1915 года своим отравляющим чадом душит все, что осталось позади здорового, чистого и честного», – продолжал В.И. Немирович-Данченко7.
Указание на зиму 1915 г. не случайно. На протяжении 1915 года по мере ухудшения экономического положения приобретал грозные очертания вопрос о дороговизне. Тем временем высшая бюрократия старалась общее негодование по поводу катастрофы боевого снабжения направить на не любимых народом «аршинников» и «мародеров», а прежде всего – на оппозиционную «общественность». Такой курс правительство обстоятельно обосновало на заседании 3 ноября 1915 г. Изображая готовность сотрудничать с общественными силами, Совет министров исподтишка организовывал
Доклады и сообщения
травлю своих политических врагов – «общественных деятелей» в военно-промышленных комитетах и Земгоре8, привлекая умелых специалистов из числа черносотенных думских ораторов и газетчиков. 21–23 ноября в Петрограде вожди правых провели совещание, на котором установили цели пропаганды. Председательствовавший на совещании А.А. Римский-Корсаков излагал в письме единомышленнику эти задачи: разъяснять, что, ухватившись за лозунг «Все для войны!», Гучковы, Рябушинские, Челноковы и им подобные наживают «колоссальные деньги на поставках» и создают «непомерную дороговизну предметов жизненной необходимости». Неделю спустя еще один всероссийский съезд черносотенцев выступил с якобы самодеятельной инициативой: «обратить внимание правительства на чрезвычайное обогащение» поставщиков для армии, на городской и земский союзы с их «расточительностью» в назначении окладов своим служащим и при закупках товаров, на «колоссальные злоупотребления» «злостных спекулянтов»9.
Военный министр А.А. Поливанов 9 декабря 1915 г., опираясь на заключения Наблюдательной комиссии Особого совещания по обороне, поставил перед Министерством торговли и промышленности вопрос о нормировке цен ввиду «неожиданного» и «чрезмерного» вздорожания всевозможных материалов и сырья, «умышленного взвинчивания цен исключительно в спекулятивных целях»10. После его отставки в марте 1916 г. Д.С. Шуваев, сменивший Поливанова, тоже выразил недовольство 300–400 % прибыли, «получаемой частными предприятиями на заказах, распределяемых при посредстве военно-промышленных комитетов». Но и помимо наживы на армейских поставках, и без участия военно-промышленных комитетов купечество не упускало открывшихся возможностей. В Троицкосавске, Кяхте и Усть-Кяхте, как сообщали из Иркутска, местные городские власти призвали население к бойкоту магазинов товарищества «А.Ф. Второва Сыновья», которое товары, полученные до войны, продавало дороже в несколько раз, иногда в пять раз, что влияло на цены по всей Сибири11.
16–17 декабря 1915 г. газеты сообщали о перепалке в Бюджетной комиссии Думы по поводу дороговизны – с участием министра внутренних дел А.Н. Хвостова, ранее эксплуатировавшего эту тему в качестве думского вождя правых. Хвостов совместно с министром путей сообщения А.Ф. Треповым тут же вознес решение вопроса на благовоззрение императора, и Николай II включился в обличительную кампанию – повелел Хвостову подхлестнуть борьбу со спекуляцией и взвинчиванием цен. «Государь
Доклады и сообщения
Император даже предписал мне ежемесячно делать доклады» о результатах, похвалился министр12.
Телеграмма о царском повелении, разосланная под Новый, 1916-й, год циркулярно, вызвала повсюду совещания у губернаторов и градоначальников, освещаемые местной печатью. В итоге пресса самых разных политических оттенков получила основание, не вступая в противоречие с властью, запечатлеть скандальные страницы тыловой жизни: если можно писать о спекуляции и ценах, то нечего молчать и об «оргиях» озолотившихся мародеров. Торгово-промышленные круги, обеспокоенные растущим общественным возмущением, старались погасить обсуждение столь острого предмета в печати и сделали попытку добиться цензурного запрета13, но не встретили понимания. «К первым дням января [1917 г.] московские (и провинциальные, конечно, также) торгаши выдавали своим бухгалтерам и приказчикам по несколько тысяч "наградных", потому что вместо обычных 25 % прибыли получили 75 и 90». «Оттого-то хороши дела и у московских "папаш", вроде Зона и Максима, оттого-то в московских клубах, Купеческом, Охотничьем, и Литературномосковском кружке ведется чудовищная игра в карты. Людьми забито все: гостиницы, рестораны, театры... Торгуют как никогда, везде довольны, везде потирают руки»14. «Стыд и позор ненасытному русскому купечеству, – прорывался классовый подход в дворянских газетах, – как перворазрядному, где хапают миллионы всякие прогрессивные "джентельмены", так и мелкому, где торгаши совсем не знают удержу своей наживательской похоти»15.
Естественное развитие обличительной кампании предопределялось усугублением хозяйственных затруднений и бедствиями низов. И в столицах, и в каком-нибудь Житомире обывателя выводила из равновесия «наша внутренняя разруха. Наряду с недостатком самого необходимого – швыряние деньгами, материалами и силами без всякого расчета»; «прожигание жизни, безумное мотовство и роскошь, погоня за наслаждениями растут с каждым днем». Негодующим живым свидетелям событий естественно приходило на ум одно – пир во время чумы : «Как это ни странно, но именно в наши страдные дни мы наблюдаем в сфере увеселительной своеобразный безудержный пароксизм. Кругом идет какой-то "пир во время чумы"», ликует «праздная, ничем не смущающаяся толпа, на которую война упала золотым дождем». «"Казанский телеграф" пишет: Спекулятивная, торгашеская, сытая и пьяная Москва весело справляет свой пир во время чумы. Начиная от "центральных" увеселительных мест, вроде Великого Зона (опереточных и шантанных дел мастера) или "Максима", и кончая разжиревшей "Летучей
Доклады и сообщения
мышью", везде несутся куплетики вольного содержания с эстрад, льются волшебные "квасы" в фужеры и бокалы, галдит почему-то пьяная от кваса публика, горят крупные драгоценные камни на сытых шеях и жирных пальцах спекулятивных мужчин и дам»16. Специальный раздел исследования «Война, породившая революцию» так и озаглавлен – «Пир во время чумы»17. Неуклюжие попытки господ засвидетельствовать свою готовность в меру пострадать вместе с простонародьем приняли вид организуемых великосветскими дамами обществ по борьбе с роскошью18, благотворительных мероприятий, аукционов19, денежных сборов. «Либеральная» оппозиция, рассчитывая показать неспособность власти преодолеть развал, примеряла на себя роль блюстителя нравственности. Прогрессивный депутат Думы А.А. Бубликов предложил запретить ввоз в Россию предметов роскоши. В августе 1915 г. Дума отклонила предложение Бубликова20, однако внимание к безобразиям богачей нарастало.
«Совершается массовое раздевание донага российского обывателя... наживают 60 %. Это меньше, чем "второвские 500 %", но суть в том, что "грабеж на 500 %" совершали магазины Второва в уездном городе, а мануфактурная промышленность сбывает свои товары всей России. 60 % – при необъятном масштабе массы сбываемого изделия – это море золота, это выжимки народного сверхчеловеческого труда, пота и крови... Бардыгины, Рябушинские, Смирновы, Морозовы страшно повысили свой товар в цене. Их оптовые покупатели, в свою очередь, повысив цены и наживая 100–150 %, теснят продавцов в розницу, а эти последние... взвинчивают цены на мануфактурные изделия именно до nec plus ultra (донельзя. – В.П. )»21. Газетчики при этом оставили в стороне основное: к тому времени Н.А. Второв, как и Рябушинские, получал доходы вовсе не только из торговли, но и от многочисленных военно-промышленных предприятий, а также от текстильных, которые тоже питались – по официальным данным, более чем на 70 % (а по собственным подсчетам фабрикантов, с учетом криминального выпуска продукции на черный рынок – наполовину22) – военными, интендантскими заказами.
Доклады и сообщения
«Жизнь... качнулась в сторону личных наслаждений... Новый лозунг: "Живите так, будто живете последний день!"... Переполнены все театры, рестораны, кафе. Ювелирные магазины торгуют как никогда... На бегах и скачках негде яблоку упасть... Как вода льется вино23. Скачут бешеные деньги. На расфранченных дамах бриллианты, кружева, "доводящие ум до восторга"». Сытинская газета «Раннее утро» обратилась к читателям с запросом: «Нам хотелось бы выяснить: действительно ли так глубоки корни этого явления? Не преувеличены ли ежедневно всплывающие пред нами факты? Каковы у нас размеры этой новой страшной болезни?»24 В этом же номере сообщалось о выявленной в Харькове, важнейшем центре перевозок угля, «целой организации, в которую входили чины некоторых ведомств и представители различных торговцев», обогащавшиеся на перепродаже вагонов и очередей на перевозки. «Наряды хотя и выдавались законным порядком, но определенным лицам, которые немедленно перепродавали их с крупными барышами разным спекулянтам».
«Что доставляют наши поезда? – обличал в Думе "христопродавцев" правый депутат, священник К.М. Околович. – Вот, например, идут сюда сотни вагонов с фруктами... чревоугодная дребедень занимает вагоны. Предметы роскоши везутся в изобилии... и вагоны живых цветов... Народное бедствие они превратили в свое коммерческое предприятие... Эти христопродавцы... эти "патриоты своего кармана" часто делают жертвы на лазареты и на разного рода организации. Они везде говорят... о своем патриотизме. На самом же деле они, ставя свечку одной рукой, в то же время другой рукой снимают сапоги с инвалида-солдата»25.
Княгиня М.К. Тенишева ни в одном городе «не чувствовала так "бряцание деньгами", как в Москве. Назойливое напоминание, что здесь люди богаты, сыты и самодовольны, отовсюду лезет на вас и наполняет собою всю атмосферу»26. Из отчета Московской пробирной палаты можно было понять, что в 1915 г. меньше скупали золотых и серебряных вещей, чем в 1914 г. «Это не так, – сказал сотруднику газеты управляющий палатой Л.Ф. Воликс. – Москва никогда еще не торговала золотыми и серебряными вещами так, как в прошлом году. Ювелиры распродавали буквально все, что накопилось от прошлых лет... Получаются колоссальные итоги»27.
Доклады и сообщения
Вновь и вновь газеты различных направлений привлекали внимание к «чудовищной и притом легкой наживе разных спекулянтов, аферистов, промышленников и банковских дельцов». Их «разнузданность... превосходит все вероятия: покупка какого-нибудь колье или браслета в несколько десятков тысяч никого уже не удивляет – она стала заурядным явлением. Содержанки и просто мимолетные знакомые всяких мазуриков ходят буквально обвешанные бриллиантами, изумрудами и рубинами. И это в то время, когда истинные сыны и дочери России отдают за родину свою жизнь»28. Из Парижа сообщали о вздорожании бриллиантов. Цены вздули американцы и скандинавы, «но более всего... русские. Россия будто бы закупает брильянты в неслыханном количестве и по неслыханным ценам… Почти вовсе не покупают цветных камней. Золото и самой чистой воды брильянты – вот что спрашивает "голодающая", разоряющаяся и истекающая кровью страна... Известие это сочтут за "утку". Я сам бы в нее не поверил, если бы не присутствовал при брильянтовой вакханалии за границей... Я познакомился за границей с оптовым торговцем брильянтов. Он вез из Парижа в Петроград целую кучу их.
– Расхватают. В десять раз больше расхватают. У вас теперь боятся денег. После каждой войны у вас бывали громкие процессы. Уликой воров служили вклады в банках, имения, дома. Теперь решили улик не оставлять. Брильянты портативны. Десяток камней чистой воды – богатство. И оно растет в цене.
...Чистейшей воды камни ютятся под засаленными жилетами взяточников»29.
По наблюдению «Раннего утра», «никогда не тратилось на костюмы столько денег, сколько тратится сейчас. Модные портнихи завалены работой. Несмотря на затруднительность сообщения с Францией, серьезные события на западном фронте, Москва через Швецию выписывает парижские модели, брюссельские кружева, ажурные, оплачиваемые втридорога чулки и обувь. Лишь вчера (16 февраля 1916 г. – В.П. ) в одном из банков крупнейший московский мануфактурист сделал огромный перевод на Париж за дорогую дамскую материю»30.
Дирекция императорских театров вначале задумалась, «уместно ли, в то время как русское воинство будет проливать кровь за честь и свободу Родины, отвлекать общество от сосредоточенного воодушевления», или лучше отложить открытие сезона 1914 г. «до того времени, пока внешние события и жизнь столицы не войдут в свою колею»31. Но затем сомнения отпали. Председательница Императорского российского театрального общества А.А. Яблочкина, которая осуждала «нынешние безумные траты светских дам на костюмы», была осмеяна «всеми модницами». И все же в Москве и Саратове многие
Доклады и сообщения
артистки поддержали ее выступления против дорогих туалетов, роскоши и расточительности; проектировалось устройство «публичного диспута» и «вечеров с докладами» на эту тему с передачей доходов от вечеров на благотворительные цели32. А «с берегов Невы» сообщали: «В антрактах обращала на себя внимание какая-то дама, на правой ноге которой красовался массивный браслет с колокольчиками»; «Двух особ... с звенящими ногами видели вчера и в "Палас-театре", на оперетке. Колокольчики, нацепленные на бесстыдную ногу, тут были не просто причудой моды, но вызовом. Дескать, "вот там где-то сражаются, страдают, умирают, но мне на это наплевать, я купаюсь в деньгах, созданных на крови, и трачу их, как мне угодно!"». Наблюдался «ажиотаж публики и профессионалов в погоне за... предметами роскоши, ослепляющими глаз даже не внешностью, а только ценой». «Цены на картины, скульптуру, а также на художественные изделия из фарфора, бронзы, майолики и т. д. сильно поднялись... Цены на предметы искусства у антикваров растут. Появился спрос и в провинции»33.
В соответствии с общим духом показной кампании против увлечения роскошествами возникла легенда, будто «фирма Фаберже в 1915–1916 гг. по просьбе императорской фамилии выпускала вместо изделий из драгоценных металлов деревянные пасхальные яйца»34. Но известны и сохранились в музейных коллекциях царственные экспонаты, изготовленные в ознаменование военных событий: яйцо 1915 г. «Красный Крест» и др. «Военное стальное» яйцо (Государственный музей Московского Кремля) имеет высоту 167 мм, на стальном блестящем корпусе размещены золотые накладные изображения герба, св. Георгия, дата «1916». Оно увенчано золотой короной и покоится на четырех миниатюрных артиллерийских снарядах. Яйцо «Орден Святого Георгия», также 1916 г., подаренное Марии Федоровне, – это серебро, золото, эмаль разных цветов, хрусталь и акварель на слоновой кости (в 2004 г. куплено В. Вексельбергом). Яйцо «Карельская береза» (предназначалось для Марии Федоровны) было сделано в 1917 г. из золота и карельской березы. Внутренний сюрприз яйца представлял собой миниатюрного слона, украшенного золотом и серебром, 8 большими и 61 маленьким алмазом. Ключ для заводки слона был сделан из золота, украшен алмазами. Не законченное в 1917 г. яйцо-часы «Созвездие Цесаревича», предназначавшееся Александре Федоровне (темно-синее стекло, серебро, непрозрачный горный хрусталь, алмазы), хранится, как и предыдущее «деревянное», в музее Фаберже (Баден-Баден, Германия). Продолжение подобных ежегодных заказов – «еще один пример того, насколько выросла пропасть между царем и
Доклады и сообщения
его подданными», точнее «большинством русских людей»35, потому что не всем подданным война несла потери.
«Что-то невообразимое! – восклицал Немирович-Данченко. – ...Посмотрите, что творится в дорогих ресторанах, в богатых домах... "Общество", развратное, спившееся, как в тупик засевшее в кабак и лупанар, ничего не хочет знать. Я говорю об обществе гнусного разврата... захлебнувшемся в торопливо нахапанных миллионах. В Петрограде и Москве сейчас сезон каких-то пьяных собачьих свадеб, где сверкающие бриллиантами и наготой проститутки разматывают последние силы оставшейся дома молодежи. Дешевые миллионы за счет ограбленного обывателя создают в тылу величайшей из войн самый невероятный разврат... Бутылка шампанского стоит четвертную. А оно льется водопадами, точно все кругом какие-то Ротшильды. "Уважающий себя негодяй", сорвавший сотни тысяч с общенародного горя, считает за бесчестие сесть за стол без такого дорогого пойла»36.
Конечно, объявленный 22 августа 1914 г. запрет на горячительные напитки никто не отменял. За торговлю спиртным владельцы гостиниц и ресторанов подлежали наказанию в виде трехмесячного ареста или штрафа, и иногда это практиковалось. Но «власть имущие и состоятельные горожане фактически оказались вне "сухого закона" и не испытывали трудностей при получении алкогольных напитков», что усиливало раздражение в обществе, «вызывало озлобление, ощущение социальной несправедливости»37. В газетах постоянно описывались кутежи и попойки, устраиваемые героями тыла как должное, и нельзя сказать, что пресса рисовала «в целом радужные картины трезвой жизни», отводя «малейшим» неприглядным отклонениям место «вопиющих исключений»38. «Алкоголь в последние три-четыре месяца продавался в Петрограде так свободно, что вряд ли кто еще верил, что алкогольный запрет существует, – сообщала газета 1 марта 1916 г. – В каждом "приличном" доме к столу подавали вина, водки и ликеры, а в ресторанах распивали... лишь в чуть-чуть замаскированном виде. Это дела не меняло, только, пожалуй, подбавляло к выпивке букет пикантной остроты... "Кипяточек" в бутылках с тремя и четырьмя звездочками... по 12 рублей. Большие, очень большие деньги были нажиты купцами и разными ловкачами, присосавшимися к торговле спиртуозами. Среди этих молодцов называют людей с громкими именами и с такими связями, что разве сумасшедший посмел бы их тронуть.
...И вдруг 30 благодетелей оштрафованы, посажены в тюрьму, а иные из них будут и высланы из Петрограда...39 Однако "страшен сон, да милостив Бог". Я сегодня обедал в ресторане, на владельца которого наложена наиболее тяжелая кара.
Доклады и сообщения
– Крышка? – спросил я официанта…
– Почему же "крышка"? – обиделся тот. – ...Чтобы наш хозяин сидел? Помилуйте, с чем же сообразно-с? Наша публика, можно сказать, первейшая в столице. Таких персон обслуживаем, что ой-ой! От князей церкви благословение имеем. И нас за решетку? Никак это невозможно-с.
– Но ведь приказ объявлен?
– Образуется, сударь. Но, конечно, цена другая уже будет. К кофию чашечку "виноградного соку" позволите? Четыре звездочки и всего пять рублей-с...»40.
Московская городская дума, отклонив в очередной раз ходатайства винной биржи и Трехгорного пивоваренного завода о разрешении торговать виноградными винами и пивом, постановила впредь запретить городской управе вносить в думу подобные предложения. Комиссия, образованная думой, советовала обратиться к градоначальнику «с указанием на недопустимость того, что происходит в Москве», где «ровно ничего не предпринимается для прекращения продажи вина». На косметические, фармацевтические и технические цели требуется в год 213 тыс. ведер спирта, а ввезено 791 тыс. ведер. «Непостижимо, по какому праву... рестораны и клубы в Москве держат огромное количество вина и торгуют им почти без стеснения»41.
«У нас, в Петрограде, едва ли в этом отношении не перескочили Москву, – возмущался Немирович-Данченко. – ...Зачем же вы даете простор дорогому кабаку и собачьей свадьбе? Я понимаю еще, когда замученный, усталый и наголодавшийся приедет сюда с позиций и отведет душу в тот короткий срок, который удалось ему урвать. А... от чего это надо забыться мародерам, грабителям, игрокам на казенные ставки, народным ворогам, сеющим в потребительской массе голод, отчаяние, усталость?»42.
Но проблему отдыха от повседневных светских забот и выгодных занятий обличительные мобилизующие выступления не устраняли. Ранней весной 1916 г. в Ялте открылся курортный сезон. «На набережной уже встречаются изысканные туалеты курортных, – сообщала газетная хроника. – В театре заполнены первые ряды. В гостиницах занимаются дорогие номера. Съезжается столичная публика. В Кисловодске... съезд публики небывалый». «В прошлом [1915] году незадолго до Пасхи наблюдался небывалый отъезд москвичей на русские курорты. Сейчас приходится отметить еще больший отлив населения из Москвы, чем в прошлом году. Чуть ли не с конца февраля в Международном обществе спальных вагонов стали записываться на билеты в южном направлении... Требования шли больше всего на Кавказ, куда публика устремлялась вследствие полного успокоения на Кавказе, где наша армия продвинулась далеко вперед. Затем стали "записываться на Крым"... Едут в Ялту, Гурзуф, Евпаторию, Феодосию и другие
Доклады и сообщения
места... Уже вчера получить место в скором поезде Московско-Курской дороги можно было только на конец мая». Проданы были все спальные места на курьерские поезда и в направлении на Кисловодск – по 1 апреля. В Ялте «съезд курортных для марта необычайно велик. За недостатком автомобилей многие едут из Симферополя в экипажах». Отмечалось развитие частных курортов в Самарской, Саратовской, Оренбургской губерниях43.
Летом в курортных местах расцвели розы, араукарии, канны и магнолии. «Купальный сезон на Кавказском побережье в полном разгаре, – гласила хроника. – В Анапе съезд курсующих превысил 15 000 человек. Все квартиры в центре заняты... В Новороссийске съезд небольшой. Приехало не более 2 500–3 000 курсующих... Погода стоит прекрасная. В Геленджике съезд очень большой. Свободных квартир нет. В Сочи все дачи заняты. Помимо прекрасных морских купаний, многих привлекли сюда мацестинские серные источники. Прекратившийся было в первые дни после визита "Бреслау" съезд курсующих возобновился с прежней силой. Здесь проводят лето многие видные сановники. Погода стоит великолепная. Температура морской воды 21 градус, воздуха – 32 градуса. Все время цветут розы. В Гагры съехалась публика, избалованная дорогими заграничными курортами; много представителей русской аристократии и высшего бюрократического мира. Все отели заняты»44. Как видно, беззаботно «отдыхали» не только безродные участники «торговой свистопляски», «аршинники».
Но и заграничный отдых не утратил привлекательности. В начале войны в Монте-Карло жизнь замерла. Закрывались роскошные отели, ушла на войну значительная часть служащих-французов. Казино какое-то время приносило убытки. «В воздухе запахло гнусной экономией и чуть не нищетой. Люди, знавшие Монте-Карло в прежние годы, думали, что оно не выдержит и провалится. Но нет, оно обнаружило высокое гражданское мужество и приспособилось… Да, все было бы хорошо, если бы в Монте-Карло и его окрестностях не было... наших милых компатриотов.
Откуда они берутся? Боже мой! Откуда эти зеленые платья и удивительные накидки? Откуда безграничные мясистые затылки, набекрень заломленные шляпы, длинные гривы нечесаных волос, громкие разговоры и на сто верст заметное неуменье себя держать?
Со всей Европы в Монте-Карло съезжались странные русские типы, каких давно уже нигде не было видно. Особенно много набралось пожилых русских дам типа так называемых провинциальных преферансисток, приходящих в казино как на службу, со своими бутербродами и такими поместительными сумками, как будто они собрались на охоту на самую большую дичь... Вот московский домовладелец С-в, привезший с собой в Ниццу три миллиона и проигрывающий уже последний миллион; вот графиня Ш-ва с дочерьми, ежедневно играющая, как она выражается, "для развлечения" и тем не менее
Список литературы На пути к 1917 году: драма русского общественного самосознания
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 579.
- Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 369.
- Российский государственный исторический архив. Ф. 1267.
- Земщина. , 1916-1917. Январь-декабрь.
- Маленькая газета. , 1917. 8 января.
- Московские ведомости. , 1915-1916. Январь-декабрь.
- Новое время. , 1916. 3 августа.
- Прибавления к Церковным ведомостям. , 1916. 28 мая.
- Раннее утро. , 1916. Январь-март.
- Русские ведомости. , 1916. 26 ноября.
- Русское слово. , 1916. Январь-март.
- Современное слово. , 1916. 15 июня.
- Агеева Е.А. Роскошь в российском обществе в период Первой мировой войны: экономический и социальный аспекты//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 9 (47).
- Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны. М., 1962.
- Бердяев Н. Судьба России. М., 1918.
- Бибин М.А. Дворянство накануне падения царизма в России. Саранск, 2000. С. 90-91.
- Борщукова Е.Д. Общественное мнение населения Российской империи о Первой мировой войне и защите отечества (1914-1917). СПб., 2012.
- Буковецкий А.И. Введение в финансовую науку. Л., 1929.
- Булгакова Л.А. Привилегированные бедняки: помощь солдатским семьям в годы Первой мировой войны//На пути к революционным потрясениям. СПб.; Кишинев, 2001.
- Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. Россия, 1914-1917 гг. М., 2015.
- Виллмотт Г.П. Первая мировая война. М., 2010.
- Государственная дума. Созыв IV. Сессия 5. Пг., 1916. Стб. 592. Заседание 29.XI.1916.
- Забытая война и преданные герои. М., 2011.
- История предпринимательства в России: XIX -начало ХХ в. Вып. 2. СПб., 2006.
- Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России (1900-1917 гг.). М., 1963.
- Москва в годы Первой мировой войны. 1914-1917 гг. Документы и материалы. М., 2014.
- Новопольцев Ю.В. Влияние Первой мировой войны на экономическое состояние системы образования в России//Вестник Самарской экономической академии. 2003. Спец. выпуск. Проблемы экономической истории России и ее регионов: современный взгляд.
- Ольсевич Ю.Я. Капиталистическое воспроизводство и милитаризация экономики//Вопросы экономики. 1962. № 2.
- Особые журналы Совета министров Российской империи. 1915 год. М., 2008.
- Первый Всероссийский торгово-промышленный съезд в Москве 19-22 марта 1917 г. Стенографический отчет и резолюции. М., 1918.
- Петров Ю.А. Балансируя над бездной//Огонек. 2016. № 43.
- Петров Ю.А. Династия Рябушинских. М., 1997.
- Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: предпринимательство и политика. М., 2002.
- Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства//Вопросы истории. 1994. № 8.
- Правые партии. Документы и материалы. Т. 2. М., 1998.
- Раупах Р.Р. Facies hippocratica. (Лик умирающего). СПб., 2007.
- Россия и революция 1917 года: опыт истории и теории. СПб., 2008.
- Самохин К.В. Тамбовское крестьянство в годы Первой мировой войны. СПб., 2004.
- Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973.
- Фабер Т. Пасхальные яйца Фаберже. М., 2010.
- Чагадаева О.А. «Сухой закон» в России в годы Первой мировой войны. М., 2016.
- Lockhart R.H. Bruce. Memoirs of a British Agent. London, 1974.
- Wilson Woodrow. The Road away from Revolution. Boston, 1923.