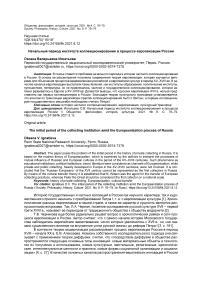Начальный период института коллекционирования в процессе европеизации России
Автор: Игнатьева Оксана Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема начального периода в истории частного коллекционирования в России. В основу ее рассмотрения положена современная теория европеизации, которая изучается авторами для объяснения процессов взаимовлияния российской и европейской культур в период XV-XVIII вв. В качестве каналов европеизации выступали такие явления, как институты образования, политические институты, путешествия, литература, но не привлекалось частное и государственное коллекционирование, которое активно развивалось в Европе в XV-XVIII вв. Делаются выводы, что «русских европейцев» XVII в. нельзя представлять как первых коллекционеров в России. Благодаря теории культурного трансфера устанавливается, что агентом по трансляции европейских практик коллекционирования был Н. Витсен, а первым коллекционером государственного масштаба необходимо считать Петра I.
История частного коллекционирования, европеизация, культурный трансфер
Короткий адрес: https://sciup.org/149138710
IDR: 149138710 | УДК: 94(470)“16/18” | DOI: 10.24158/fik.2021.8.12
Текст научной статьи Начальный период института коллекционирования в процессе европеизации России
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, ,
,
Историю государственных и частных коллекций в России как научного характера, так и художественного принято начинать с преобразований Петра I, т. е. с европеизации культуры [1]. Хронологические границы европеизации в нашей стране, а также ее характер и сущность являются дискуссионными вопросами. Так, Л.А. Черная, посвятив исследование русской культуре XVII – первой трети XVIII в., называет ее переходом от традиционного общества к обществу модернити [2].
Т.В. Черникова еще более радикально решает вопрос о хронологических рамках и сути процесса европеизации в России. Автор считает, что с самого начала истории Московского государства наблюдались европейские заимствования, число которых увеличилось к XVII в., но «не оказало существенного влияния на внутренние устои русской жизни» до реформ Петра I [3, с. 181].
В контексте теории модернизации рассматривает процесс европеизации России в период XVIII – начала XX в. Е.В. Алексеева. Новизну собственного исследовательского подхода она связывает с применением теории диффузии, считая, что «посредством диффузии в обществе распространяются следующие основные типы инноваций: новые материальные объекты и технологии их получения и использования, новые культурные, ментальные, религиозные, идеологические, интеллектуальные ценности и практики, новые формы социальной организации и социализации» [4, с. 27]. В качестве основных каналов распространения европейских инноваций в России
Е.В. Алексеева обозначает образование, путешествия, семейные контакты, литературу, средства массовой информации, войны и профессиональные обмены.
Таким образом, следует отметить, что большинство авторов первые шаги европеизации связывают не с началом реформаторской деятельности Петра I, а с более ранним временем. Более того, преобразования начала XVIII в. обусловлены внутренними процессами перехода от традиционного общества к модерному обществу, но при этом масштаб деятельности Петра Великого по модернизации государства оказывается решающим.
Более сложный характер европеизации России, каким он видится современным исследователям, стремление представить этот процесс в контексте теории диалога культур приводят к использованию сравнительно новых методологических подходов, среди которых самым популярным является теоретическая рамка трансфера. Французский историк М. Эспань ввел понятие культурного трансфера еще в 1980-е гг. [5], но относительно российского опыта модернизации его начали применять только в 2000-е гг. Особую роль в этом сыграли научные конференции и издания Германского исторического института в Москве, посвященные проблеме трансфера и адаптации европейских идей и практик в Российской империи.
По мнению К. Шарф, методология культурного трансфера в исторических исследованиях «пытается преодолеть врожденные установки порочных схем “образец и копия”, “модель и имитация”, “транслятор и воспринимающий”, “первенство и отсталость” и др. Представители этого исследовательского направления понимают рецепцию уже не как пассивное усвоение, но активный процесс, сопровождающийся отбором, внесением поправок и адаптацией. Их интересуют реальные посредники, методы и формы трансляции» [6, с. 14]. Важно, что представители данного направления обращают внимание на то, что транслируются и адаптируются как идеи, так и материальные ценности и практики.
Несмотря на появление в России в процессе европеизации, частное и государственное коллекционирование не рассматривалось исследователями в качестве одного из каналов этого процесса. Обращаясь к теории модернизации и методологии культурного трансфера, важно выяснить, каким образом и в какой период практики коллекционирования возникают в России, кого можно отнести к первым агентам, благодаря которым формируется идентичность коллекционера в российском обществе. Целесообразно установить, каковы были особенности коллекционирования в Европе и существовали ли близкие традиции собирательства в нашей стране в допетровский период.
Частные коллекции в Европе появляются в период Великих географических открытий и Ренессанса. Увлечение античностью, которая воспринималась итальянскими гуманистами как основа культуры и искусства, приводило к формированию собраний античных древностей. Кроме того, итальянские меценаты выступали заказчиками искусства Возрождения, пополняя собственные художественные коллекции, а также делая их публичными и доступными для зрителя. Модель кунсткамеры характерна для коллекционирования XVI–XVII вв., когда наблюдался одинаковый интерес и к естественно-научным собраниям, и к художественным.
-
М. Сванн на примере раннемодерной Англии показывает, как практики коллекционирования включались в формирование новых ценностей и идентичностей западной культуры. С ее точки зрения, концепция экономического индивидуализма, самости как собственника, которая позже стала доминировать в западной культуре, складывалась в Англии в XVI–XVII вв. Новые социальные, экономические и политические условия в это время приводили к тому, что все больше англичан могли строить желаемую идентичность через практики коллекционирования [7, p. 194].
К XVII в. коллекционирование распространяется среди социально разных слоев населения в европейских городах. Так, отмечается, что к XVII–XVIII вв. во Франции в любом крупном городе жил хотя бы один коллекционер. Аналогичная ситуация была характерна для многих других европейских стран, «сеть “кабинетов” охватывала всю Европу» [8]. Имена известных коллекционеров, независимо от социального статуса, обязательно упоминались в путеводителях для путешественников, они принимали у себя визитеров и пользовались почетом.
Итак, в европейской культуре различные виды коллекционирования становятся частью нового образа, сформировавшегося в процессе модернизации. Неслучайно XV–XVIII вв. были названы золотым временем европейского коллекционирования [9].
В научной литературе была высказана точка зрения о первых шагах коллекционирования в России в допетровский период, или о появлении протоколлекций [10]. Как правило, в качестве примеров приводятся собрания знатных бояр Б.М. Хитрово, А.С. Матвеева, В.В. Голицына. Так, особого внимания удостоилась деятельность Б.М. Хитрово, «директора допетровской академии художеств», т. е. Оружейного приказа в период с 1656 по 1680-е гг. Поскольку в ведении приказа в это время находились иконописные мастерские, то Б.М. Хитрово называют «покровителем талантов и умелым отыскивателем их для иконописных мастерских» [11, с. 365]. С ним же связывают тот факт, что, несмотря на привлечение иностранных художников к работе в мастерских, удалось не слепо подражать западному искусству, а «приспособлять к своему родному, русскому» [12, с. 367].
К собирательской деятельности Б.М. Хитрово относят и то, что он делал вклады в монастырские собрания, прежде всего в те монастыри и храмы, которые находились на территории его вотчин. Данный тип покровительства и благотворительности вполне укладывается в систему ценностей и практик традиционного общества, ни в коей мере не свидетельствуя о появлении частного коллекционирования как такового. Достаточно вспомнить, что аналогичной деятельностью по строительству храмов и монастырей, а также заказу для них икон, церковной утвари и книг в неменьшей степени занимались богатые купцы-солепромышленники Строгановы, с чьим именем связывают особую школу иконописи. В этом отношении целесообразно привести интересный факт с точки зрения истории коллекционирования: после раскола, который Б.А. Успенским был назван «культурным конфликтом XVII в.», именно иконы строгановской школы сохранялись старообрядцами в качестве образцов, что привело в конце XVIII – начале XIX в. к особой практике коллекционирования этих икон с использованием владельческих знаков [13].
Кроме деятельности Б.М. Хитрово, обсуждается собрание боярина А.С. Матвеева, который увлекался европейской живописью, что доказывает иконостас в его домовой церкви, созданный итальянским художником. Его дом описывался современниками как не просто богатый, а близкий по убранству к европейским традициям того периода. В комнатах для приема были размещены картины, большое количество часов и предметов роскоши [14, с. 113–114]. В описании имущества А.С. Матвеева фигурирует множество произведений изобразительного искусства, а также, например, клетки для попугаев и перепелок, дерево сандальное, труба подзорная [15]. Все эти факты могут свидетельствовать о том, что А.С. Матвеев, будучи хорошо образованным человеком своего времени, ориентировался на те формы интеллектуального досуга, которые были распространены в Европе в XVII в. среди аристократии.
Собрание боярина В.В. Голицына, отправленного в 1689 г. Петром I в ссылку, было описано в составе имущества и передано в казну. В описи отмечается собрание книг, которое «насчитывало 50 названий, в том числе 11 книг киевской печати, одно московской печати, 9 книг безымянных, 8 книг писаных и 4 письменных, 4 книги на немецком языке, 3 книги переводных польских, 4 переводных без указания языка, одна каменная небольшая книга в черной коже. Преобладали сочинения религиозного содержания» [16, с. 61]. Кроме того, в составе имущества в большом количестве фиксируются предметы европейской мебели, посуды, зеркала, шпалеры.
Наличие европейских черт в убранстве дома бояр и богатого купечества в России XVII в. не вызывает сомнения. Вместе с тем ориентация части знатного боярства на европейские традиции в области бытовой культуры еще не является свидетельством проникновения европейских практик коллекционирования – появления кунсткамер, картинных кабинетов и галерей.
Представляется, что ключевой фигурой, агентом в культурном трансфере коллекционирования, выступает Николаас Витсен (1641–1717). Именно ему было поручено сопровождать Петра I в его первом заграничном путешествии по Голландии, более того, с русским царем к этому времени он уже имел личную переписку.
-
Н. Витсен родился в семье амстердамского купца, руководителя Ост-Индской компании. Его отец, Корнелис Витсен, был образованным человеком и дал хорошее образование детям, самым способным из которых оказался Николаас. Он изучал в Лейденском университете правоведение, но также интересовался широким кругом вопросов истории, философии, искусства. Совершив в молодости путешествие в составе посольства в Московию, он заинтересовался историей и географией страны настолько, что создал одно из первых и самых известных описаний Сибири – «Северная и Восточная Тартария». Современники сравнивали это открытие масштабов Российского государства с открытием Нового света Колумбом.
Будучи богатым человеком, участвуя в Ост-Индской компании, Н. Витсен много раз избирался бургомистром Амстердама, покровительствовал деятелям науки и искусства. Ф. Вольтер описывал его гражданские качества, подчеркивая, что Н. Витсен использовал свои средства для организации путешествий и научных экспедиций, в результате которых формировались коллекции редкостей [17, с. 51].
-
Н. Витсен был коллекционером, и это неудивительно, так как посредством деятельности в Ост-Индской компании, путешествий в тот период складывались многие собрания. Он демонстрировал интерес и к сибирским древностям, имевшимся у него в коллекции, но, по его мнению, не вызывавшим никакого интереса среди русских [18].
Петра I первоначально заинтересовал труд Н. Витсена по судостроению – «Древнее и современное судостроение и судовождение», в нем содержались чертежи и рисунки автора, для создания которых он использовал изображения кораблей с древних римских медалей и монет своей коллекции. Из переписки между царем и амстердамским бургомистром ясно, почему во время Великого посольства он останавливался именно в доме Н. Витсена и, конечно, изучал его собрание.
В течение визита в Голландию именно Н. Витсен знакомил Петра I с обладателями кунсткамер и анатомических кабинетов, прежде всего с Я. де Вильде и профессором Ф. Рюйшем. Данные контакты оказались самыми значимыми при решении вопросов о приобретении коллекций для Кунсткамеры, а впоследствии на это собрание ориентировались и приближенные Петра I, заводя у себя в домах частные коллекции.
Таким образом, хотя европейское влияние на российскую культуру началось гораздо раньше, реформы Петра I, практики государственного и частного коллекционирования появлялись в России с XVIII в. В качестве агента культурного трансфера можно рассматривать Н. Витсена. Он не только сам был коллекционером, но и собирал сибирские древности, с которыми познакомился во время визита в Голландию Петр I. В доме Н. Витсена располагалась популярная тогда в Европе кунсткамера, послужившая первоначальной моделью для аналогичного собрания Петра Великого, а впоследствии и его приближенных. Однако поскольку данное собрание формировалось на государственном уровне, а не на частном, то практики коллекционирования сразу же вводились законодательно как обязательные для сохранения и пополнения императорского музея.
Список литературы Начальный период института коллекционирования в процессе европеизации России
- Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861-1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. М., 1960. Вып. 2. С. 66-145.
- Черная Л.А. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999. 288 с.
- Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII вв. М., 2012. 944 с.
- Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII - начало XX в.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2007. 42 с.
- Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер / пер. с фр. под общ. ред. Е.Е. Дмитриевой. М., 2018. 816 с.
- Шарф К. Монархия, основанная на законе, вместо деспотии. Трансфер и адаптация европейских идей и эволюция воззрений на государство в России в эпоху Просвещения // «Вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи / отв. сост. А.В. Доронин. М., 2008. С. 9-45.
- Swann M. Curiosities and Texts: The Culture of Collecting in Early Modern England. Philadelphia, 2001. 289 p.
- Pomian K. Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle. Paris, 1987. 367 p.
- Ibid.
- Овсянникова С.А. Указ. соч.
- Трутовский В. Боярин Хитрово и Московская Оружейная Палата // Старые годы. 1909. № 7-9. С. 345-383.
- Там же. С. 367.
- Преображенский А.С. Иконные собрания московских старообрядцев в начале XIX в. Свидетельства владельческих надписей // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015. № 1 (2). С. 206-217.
- Терещенко А.В. Опыт обозрения жизни сановников, управляющих иностранными делами в России. В 3 ч. СПб., 1837. Ч. 1. Сановники, управляющие иностранными делами, до учреждения звания канцлеров. 283 с.
- Писаревский Г. Опись имущества боярина А.С. Матвеева // Чтения Общества истории и древностей российских. М., 1900. Кн. 2. С. 9-21.
- Тихонов Ю.А. Мир вещей в московских и петербургских домах сановного дворянства (по новым источникам первой половины XVIII в.). М., 2008. 352 с.
- Вольтер Ф. История Российской империи в царствование Петра Великого. Ч. 1, кн. 2. М., 1809. 227 с.
- Игнатьева О.В. Коллекционирование древностей в России: от ресурса внутренней колонизации до новых культурных практик // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. № 2 (56). С. 65-76. https://doi.org/10.24866/1997-2857/2021 -2/65-75.