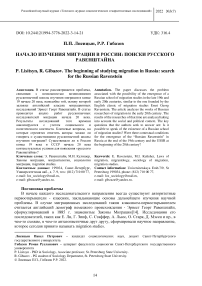Начало изучения миграции в России: поиски русского Равенштайна
Автор: Лисицын Павел Петрович, Гибазов Роман Русланович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социология миграционной политики
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема, связанная с возможностью возникновения русскоязычной школы изучения миграции в конце 19 начале 20 века, наподобие той, основу которой заложил английский классик миграционных исследований Эрнест Георг Равенштайн. В статье проводится анализ работ русскоязычных исследователей миграции начала 20 века. Результаты исследований того времени анализируются с учетом социального и политического контекста. Ключевые вопросы, на которые стремятся ответить авторы: можно ли говорить о существовании русскоязычной школы изучения миграции? Существовали ли в России конца 19 века и СССР начала 20 века контекстуальные условия для появления «русского Равенштайна»?
Э. равенштайн, м.и. кулишер, законы миграции, мигрантология, социология миграции, migration studie
Короткий адрес: https://sciup.org/142235655
IDR: 142235655 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-3-14-21
Текст научной статьи Начало изучения миграции в России: поиски русского Равенштайна
Постановка проблемы
В начале каждого исследовательского направления всегда существуют авторитетные первооткрыватели - классики, закладывающие основы дальнейшего изучения научной проблемы. В случае миграционных исследований таким классиком-первооткрывателем считается английский демограф немецкого происхождения - Эрнест Георг Равенштайн, сформулировавший в 1885 г. знаменитые Законы Миграции[14]. Исследования его последователей, таких как Е. Ли, Г. Зипф, С. Стаффер, А. Льюс, О. Старк, Д. Мэсси и пр., в чем-то схожие, в чем-то антагонистичные друг другу, сформировали научное направление, которое сегодня принято называть migration studies.
На протяжении всей истории изучения миграционных процессов (которой насчитывается без малого 150 лет) основным двигателем научного прогресса считаются работы англоязычных авторов, преимущественно из Великобритании и США. Политические, экономические и идеологические контексты исследовательской практики в различных странах (включающие создание и распад СССР, появление нацистской Германии, две мировые войны и пр.) разделили изучение миграции по национальным центрам и изоляции по языковому признаку. Эти события привели к тому, что на долгое время немецкие, российские (советские), итальянские и французские ученые были отстранены от мейнстрима миграционных исследований. Доминирование англоязычной традиции в изучении миграции совпадает с общей тенденцией доминирования английского языка в науке. Тому способствовали распределение финансовых потоков внутри системы научного капитализма, потоки вынужденной квалифицированной миграции, покидающие страны европейского континента, авторитарная внутренняя политика ряда государств в области науки и образования. Со второй половины 20 века наблюдается общее стремление к независимости науки от национальных границ при одновременном доминировании англоязычной исследовательской традиций. Несколько в стороне от этой тенденции стоят русскоязычные исследования миграции. Однако уже к концу 20 века, постепенно, англоязычные теории начинают проникать и в работы русскоязычных исследователей миграции. Сегодня редкая работа, представленная на русском языке о проблемах миграции, обойдется без ссылок на одного из перечисленных выше англоязычных классиков, начиная с родоначальника миграционных исследований - Э. Равенштайна. Вместе с тем необходимо отметить и тот факт, что работы, как классиков, так и современных исследователей migration studies до сих пор не переведены на русский язык, что существенно усложняет их встраиваемость в отечественные исследования миграции, а также встраиваемость последних в общемировую практику изучения миграционных процессов. Вместе с тем нельзя сказать, что период изоляции русскоязычных исследователей послужил катализатором появления национальной традиции изучения миграции. Так, например, у большинства русскоязычных исследователей позднего советского (раннего российского) периодов сложно найти ссылки на работы по миграции русскоязычных авторов дореволюционного или довоенного времени, не говоря уже об использовании ими методологии того времени. В общем виде преемственность в миграционных русскоязычных исследованиях начинается только с 1970-х годов. Классики русскоязычных миграционных исследований - это ученые конца 20 начала 21 века: Рыбаковский [5], Ионцев [2], Юдина [7], Заславская [1] и пр., они развивают и дополняют идеи друг друга. Благодаря им в русском языке приживается концепция мигрантологии, появляется конструкт социологии миграции и пр.
Между тем необходимо отметить, что история изучения миграции в России начинается задолго до конца 20 века. Развиваясь параллельно и, по большей части автономно, исследования дореволюционного времени, а также исследования более позднего периода во многом перекликаются с результатами исследований англоязычных авторов начала и середины 20 века.
Целью настоящей статьи является попытка ответить на вопрос: можем ли мы в условиях замкнутости русскоязычных исследований конца 19 начала 20 вв. говорить о существовании российской миграционной школы? Помимо этого, авторы попытаются понять, могли ли контекстуальные условия Российской Империи и довоенного Советского Союза позволить появиться в русской традиции фигуре подобной Э. Равенштайну, которая на заре миграционных исследований положила бы начало фундаментальным теориям исследования миграции?
Контексты изучения миграционных процессов
Поиск ответов на вопросы, поставленные в статье, следует начать со сравнительного анализа институциональных различий, в рамках которых проводились миграционные исследования конца 19 начала 20 веков в России, молодом Советском Союзе и Европе.
В первую очередь, стоит обратить внимание на различие контекстов внутри русскоязычного мира. Для этого анализа авторами были отобраны несколько русских ученых, занимающихся изучением миграций, которые могли бы претендовать на позицию первооткрывателя миграционных исследований («русского Равенштайна») периода царской России и молодого Советского Союза. Первая работа - это монография Александра Аркадьевича Кауфмана (1864-1919), опубликованная в 1905 г., вторая - работа Ивана Львовича Ямзина (1882-1934) и Владимира Платоновича Вощинина (1885-1965), опубликованная в 1926 г. Анализ этих текстов поможет сделать важные выводы относительно логики развития русскоязычной миграционной мысли и возможностей ее развития с учетом социального контекста, в котором они были подготовлены.
Между отобранными для анализа исследованиями прошло всего двадцать лет вместе с тем за эти двадцать лет сменилось государственное устройство, повседневный уклад жизни большинства жителей государства, сменилась экономическая и политическая модели, сменились задачи, которые ставит государство перед исследователями миграции.
Исторический контекст, в котором работал А. Кауфман, пронизан тяжёлой для Российской Империи проблемой - аграрным вопросом, суть которого заключалась в малоземелье и бедности крестьян, примитивных крестьянских орудиях труда и общей отсталости российского сельского хозяйства по сравнению с Западной Европой. Эти проблемы, особенно обострившиеся после государственной реформы 1861 года, впоследствии послужили причинами первой русской революции 1905-1907 годов и революции 1917 года. Между тем, попытки решения аграрного вопроса предпринимались многими русскоязычными исследователями конца 19 начала 20 веков, не исключением был и А. Кауфман. Результаты этих изысканий приводят его к тому, что в 1906 году, он оставляет государственную службу и присоединяется к оппозиционной правящей власти конституционно-демократической партии (Кадеты), в которой (уже в качестве политика) продолжает заниматься подготовкой проекта новой аграрной реформы.
Принципиально другие основания положили начало исследованию И.Л. Ямзина и В.П. Вощинина. Эти исследователи молодой советской России не могли не учитывать окружавшие их обстоятельства и произошедшие в стране изменения: создание Советского Союза (1922 г.), провозглашение на съезде партии (1925 год) курса на форсированную индустриализацию и пр.
Сравнивая представленные исследования, с одной стороны, мы можем зафиксировать их принципиальное отличие в целеполагании - в первом случае, это решение аграрного вопроса, во втором, проведение индустриализации. С другой стороны, эти исследования являются схожими, так как они оба носят не столько научно - фундаментальный характер, сколько прикладной. Кроме того, еще одним важным отличием является проявившаяся после революции 1917 года тенденция к замкнутости русскоязычных ученых от ученых буржуазного мира. Если в работе А. Кауфмана (1905 г.), еще присутствует большое количество ссылок на иностранных исследователей, то в работе И.Л. Ямзина и В.П. Вощинина ссылки на иностранных буржуазных учёных сведены к минимуму сознательно. «Ссылки на иностранную литературу - пишут они - делаются лишь в величайшем минимуме и лишь в силу неизбежности указания нескольких незаменимых пока иностранных научных работ» [9, с.5].
Занимательным фактом является то, что дореволюционных русскоязычных исследователей миграции отдаляло от их европейских коллег несопоставимость проблем, которые каждый из них пытался решить инструментами миграции. В первом случае – это аграрный вопрос, во втором, уже необходимое для Англии, Франции и Германии ускорение индустриализации и развитие обрабатывающих производств. Вместе с тем сопоставимость решаемых задач (общие проблемы индустриализации, включая: развитие городов, рост численности рабочего класса и прочие сопутствующие этому проблемы) для исследователей из европейских стран и молодой Советской России также не приводят к сближению, но уже по причине сознательной самоизоляции последних.
Еще одним важным фактором для понимания несопоставимости исследований русскоязычных ученых занимающихся миграцией и исследований их европейской коллег является - свобода перемещения. Свобода перемещения является обязательным условием развития миграционных процессов. Существование этого условия в Великобритании, позволяет Э. Равенштайну фиксировать большие объемы движения населения внутри страны, а на основе анализа полученных данных строить гипотезы о миграционных законах. Вместе с тем, если к середине 19 века, например, в Великобритании этап промышленной революции был уже завершен, то в России индустриализация только начиналась, отягощенная отсутствием свободы перемещения, отмененным де-юре реформой 1861 года, а де-факто существовавшим значительно дольше. После официального освобождения крестьян реформой 1861 г., потенциальные мигранты сталкивались с правовыми и экономическими преградами, не позволявшими большей части населения России участвовать в миграционном процессе. После революционных преобразований, проблемы с доступом к свободе перемещения существовали у колхозников, которые, во многом являлись повторно закрепощёнными крестьянами, у распределенных по работе выпускников ВУЗов и пр. Таким образом, институциональный запрет на перемещение, оформленный еще в 16 веке, просуществовал в России до конца 19 века, а в начале 20 века сменившейся новыми ограничительными мерами, лишал возможности отечественных исследователей (в отличие от их европейских коллег) работать с большими объемами данных о миграции.
Таким образом, оценивая ситуацию с точки зрения институциональных условий, складывается ощущение, что, если и искать «русского Равенштайна», то это необходимо делать уже в 70 годы 20 века. Именно в этот период изоляция постепенно уступает место размыванию границ, появляются общие проблемы, требующие решения, постепенно уходит в прошлое запрет на свободу перемещения.
Вместе с тем, хотя бы для доказательства этого тезиса, мы попытаемся подробнее проанализировать вышеупомянутые работы А.А. Кауфмана и И.Л. Ямзина и др.
Предшественники
Одним из первых русскоязычных авторов, обратившихся к научному осмыслению миграции, является Александр Аркадьевич Кауфман (1864-1919). Изначально работавший в качестве переселенческого чиновника, а затем как независимый экономист и статистик А.А. Кауфман подготовил работу «Переселение и колонизация» [3], где он подробно описал происходящие в 19 - 20 веках миграционные процессы. Также к числу первых исследователей миграционных процессов стоит отнести Ивана Львовича Ямзина (1882-1934) и Владимира Платоновича Вощинина (1885-1965), издавших в 1926 г. труд «Учение о колонизации и переселениях» [9]. В этой работе авторы сконцентрировались на изучении одного типа миграции – массового долгосрочного переселения из плотно населенных районов в малонаселенные с целью увеличения производительности труда и повышения эффективности использования земель. Они предлагали критерии успешности миграционных процессов, обсуждали, какие земли наиболее подходят для колонизации [9, с. 59], описывали переселение до и после революции [9, c. 67-84].
Вместе с тем, если работа И.Л. Ямзина и В.П. Вощинина носит в большей степени прикладной характер, то работа А.А. Кауфмана не лишена и ряда фундаментальных обобщений. Потому в настоящем тексте мы более подробно остановимся на анализе работы А.А. Кауфмана, ссылки на которую можно найти в русскоязычных работах и исследователей раннего Советского периода, обращающихся к проблеме крестьянства, в том числе и в работах И.Л. Ямзина и В.П. Вощинина.
А. Кауфман предполагал, что решение аграрного вопроса (в том числе малоземелья) необходимо решать путем повышение у крестьян культуры работы с землёй [3, с. 183]. Ссылающиеся же на него советские работы, в целом принимая проблематику малоземелья, искали выходы в повсеместном внедрении инновационных орудий труда [9, с. 127-128].
В работах А. Кауфмана, помимо попытки решения прикладных вопросов за счет инструмента миграции, присутствует и ряд фундаментальных обобщений о миграционных процессах. Например, он утверждает, что для процесса миграции свойственны колоссальные риски, доказательством наличия которых служит тот факт, что половина переселяющихся терпит неудачу и затем вынуждено возвращаться на прежнее место жительство [3, с. iv]. Миграция, - отмечает А.А. Кауфман - не является свойством какой-либо отдельной национальности, а есть процесс общий, играющий первостепенно важную роль в экономической, культурной и политической жизни всех времён и народов [3, с. 3]. Кроме того, он утверждает, что участниками миграционных процессов становятся те, кто не может быть устроен на своём месте никаким иным образом [3, c. v]. Он перечисляет основные причины миграций, среди которых малоземелье, русская бродяжность, идеализация переселения, бегство от притеснений [4, с. 161-162].
Стоит отметить, что, рассуждая о миграции и предлагая определенные фундаментальные суждения о ней, А.А. Кауфман в целом находится в тренде исследований этого периода (основанных на идеологии социальной физики, глобальных обобщений и пр.). Его размышления и вопросы, которые он ставит, находят свое отражение, как в современных российских исследованиях миграции, так и в трудах независимых от него, англоязычных исследователей того периода. Предположения о миграции, как о глобальной проблеме роднит его исследование с работами Э. Равенштайна и А. Льюиса. Утверждение, что миграционному процессу свойственны существенные риски, с работами С. Стаффера и Г. Зипфа. Идея о бродяжничестве, как о черте свойственной мигрантам, с идеями Э. Равенштайна о поэтапной («by stage» [14]) миграции, а также с размышлениями У. Томаса и Ф. Знанецкого об образах мигрантов и т.п.
Проведя сравнительный анализ, А.А. Кауфман в своей работе выделяет специфические черты миграции в России, среди которых: уже упомянутая нами малочисленность миграционного потока; дефицит земель пригодных для переселения; ориентация на внутреннюю миграцию; большой процент вынужденной миграции, инициируемый государством (с целью заселения Кавказа и регионов Сибири) [3, с. 4-5].
Исследования А.А. Кауфмана по методологии и инструментарию похожи на исследования его британских и американских современников. Они основываются на анализе статистических данных, на сравнительном анализе регионов и стран [3, с. 4]. Более того, его работы несколько опережают общие европейские тенденции изучения миграции. Так, не вполне доверяя сбору статистики о переселениях, А.А. Кауфман в своем исследовании применяет метод глубинных интервью, беседуя с информантами крестьянами, что сегодня (2022 г.) является вполне обыденным явлением, однако не являлось таковым в конце 19 века.
Каждая из упомянутых нами работ о миграции (А. Кауфмана и И.Л. Ямзина и др.), является продуктом своего времени. Пытаясь найти ответы на волнующие государство экономические и социальные вопросы, каждый из исследователей замыкается на поставленной ему задаче. В итоге замкнутость на поставленных задачах, в сочетании с небольшими объемами данных о перемещениях не позволяет авторам ввести в научную дискуссию фундаментальные обобщения о миграции, выделять и формулировать Миграционные Законы (Э. Равенштайн, С. Стаффер), то есть делать то, что делали классики англоязычной традиции изучения миграционных исследований.
Эмиграция
Однако, анализируя исследования конца 19 начала 20 веков в России, следует обратить внимание еще на одного исследователя, которому удалось решить, казалось бы, не решаемые методологические проблемы малого количества перемещений и нехватки данных об этих перемещениях. Михаил Игнатьевич Кулишер (1847-1919 гг.), российский социолог, помимо прочего, исследователь миграции. В общем виде его идеи были раскрыты в статье 1887 года «Механические основы передвижения масс» [4]. В этой работе, на примере России и Западной Европы, он показывает влияние миграции на политические и экономические процессы. Он подробно разбирает взаимозависимость социальных конфликтов, в том числе гражданских восстаний и политики искусственного сдерживания перемещений людей. Его основной вывод заключается в том, что бунты возникают в результате механической приостановки мирного передвижения населения [4, c. 627-628].
Статья 1887 года является лишь началом его миграционных изысканий. Позже, проведя фундаментальное научное исследование, а также подготовив соответствующие его времени обобщения, М.И. Кулишер, возможно осознавая, что его труд вряд ли будет оценен в России, сфокусированной на прикладные исследования миграции, пишет свою основную работу на немецком языке.
В своих исследованиях М.И. Кулишер основное внимание он уделяет необходимости беспрепятственных условий для миграции. В ряду прочего, он отмечает, что главную роль в решении о миграции играют «притягательные свойства тех мест, куда происходит переселение, большая или меньшая заманчивость тех удобств, которые представляет страна, куда происходит выселение…, а также большая или меньшая легкость выполнения плана переселения» [4, с. 628]. Кроме того, он обращает внимание на силу выталкивания, характеризуемую «теснотой…. Перенаселенностью, которую нужно понимать, конечно – пишет он – не в абсолютном смысле, а по отношению к данным, выработанным в момент переселения, условиям производства и распределения» [4, с. 632]. Таким образом, он отмечает, что стремление к эмиграции не всегда нужно объяснять исключительно плотностью населения [5, с. 628-630].
Анализируя в своей работе данные по миграции в России разных исторических эпох, сравнивая их с данными по Великобритании и США, в своих выводах и характере обобщений М.И. Кулишер практически не отличим от признанных англоязычных классиков миграционных исследований.
Вместе с тем, несмотря на фундаментальность его исследования, проводившегося в общей сложности более сорока лет, его труд так и не получил широкого признания (по крайней мере в России). Подготовленная им работа «Войны и миграции. Всемирная история как движение народов» [11], была опубликована лишь в 1932 году уже после его смерти. Эту работу, дополнив обновленными данными, в эмиграции опубликуют его дети - Евгений и Александр Кулишеры. Еще до выхода полнотекстового издания работы М.И. Кулишера, его сын Александр в 1924 году опубликует статью «Теория движения народов и гражданская война в России» [10], где, применяя методологию, предложенную своим отцом, проанализирует гражданскую войну в России. Евгений Кулишер, брат Александра, уже после смерти последнего в 1943 подготовит работу «Перемещение населения в Европе» [13], где использует термин «перемещённые лица» («displaced people» [6]), который ляжет в основу категории беженец, закреплённой в уставе ООН. В 1948 году будет издана еще одна его работа «Европа в движении: война и изменения населения, 1917-1947» [12]. Все эти исследования, проведенные уже после смерти М.И. Кулишера, берут за основу его методологию и во многом базируются на его первоначальном исследовании и полученных в ходе него результатах.
Размышления М.И. Кулишера о миграционных процессах, опубликованные в 1887 г. всего на два года позже, чем знаковая статья Э. Равенштайна о Законах миграции [14], во многом являлись частью глобального научного мира. Теория притяжения и выталкивания, влияние перенаселения на векторы миграционных потоков и пр., полностью соответствуют направлению мысли англоязычных авторов того же времени о миграции. Более того, часть его предположений лишь 30 лет спустя найдут свое отражение в работах С. Стаффера или Г. Зипфа. Например, идея М.И. Кулишера о наименьшем сопротивлении как принципе миграции [4, с. 604] будет озвучена в работе Г. Зипфа «Человеческое поведение и принцип наименьших усилий», идея об информированности мигрантов, как о существенном факторе миграционного поведения станет основой работы С. Стаффера в 1940 г.
Заключение
Проанализировав значимые русскоязычные работы конца 19 начала 20 годов по проблемам миграции, мы приходим к выводу, что совокупные институциональные условия, существовавшие в России в этот период, не способствовали появлению «русского Равенштайна». Фактически отсутствовавшая в той или иной степени свобода передвижения в Российской Империи, а затем и ограничения, существовавшие в Советском Союзе, не позволили исследователям собирать необходимые для построения обобщающих теорий данные. В стороне от общего направления русскоязычных исследований стоят работы М.И. Кулишера, фундаментальный труд которого мог бы занять важное место в ряду мировых миграционных исследований, а также положить начало русскоязычной школе миграционных исследований. Вместе с тем, именно в силу институциональных особенностей исследования миграции в России и СССР его работа осталась практически незамеченной российскими учёными начала 20 века. Это связано с тем, что его размышления о миграционных процессах преимущественно имели фундаментальный характер, направленный на поиск общих закономерностей и скрытых связей, в то время как общая тенденция русскоязычных исследований миграции того времени заключалась в прикладном поиске решения актуальных социальных проблем.
Вместе с тем преобразования, вызванные революцией 1917 года, положили конец надеждам на возможную преемственность между дореволюционной и советской традицией изучения миграции. Настроенным на форсированную индустриализацию советским исследователям стала неинтересна аграрная тематика, доминировавшая в исследованиях дореволюционных учёных. Исследования этих двух эпох русского мира не совместимы, так как направлены на выполнение двух принципиально разных прикладных социальных заказов (аграрный вопрос и индустриализация).
В результате сложившихся обстоятельств русскоязычная школа изучения миграций так и не состоялась, а наследие М.И. Кулишера мигрировало в Германию вместе с его детьми, бежавшими от революции, и стало достоянием западной миграционной мысли.
Список литературы Начало изучения миграции в России: поиски русского Равенштайна
- Заславская Т.И. Миграция сельского населения. Мысль. 1970. 348 с.
- Ионцев В.А. 1999. Международная миграция: теория и история изучения. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир» Вып. 3. М.: Диалог-МГУ.
- Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб.: Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. IX, 349, 81 с.
- Кулишер М.И. Механические основы передвижения масс // Вестник Европы. 1887. С. 597-635.
- Рыбаковский Л.Л. Предыстория возникновения теории трех стадий миграционного процесса // уровень жизни наспеления регионов России (2). 2018. С. 86-94.
- Тольц М. Автор термина "перемещенные лица": Евгений Михайлович Кулишер (1881-1956). Демоскоп. 2015. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0655/nauka05.php (дата обращения: 10.06.2022)
- Юдина Т.Н. Миграционные процессы: теория методология и практика социологического исследования, автореф. дис. док.соц.наук: 30.06.2004 / Юдина Татьяна Николаевна - М. 2012, 47 с.
- Яковлева Е.Б. История и теории миграционных процессов // Теория и практика общественного развития (3). 2017. С. 20-23.
- Ямзин И.Л., Вощинин В.П. Учение о колонизации и переселениях: учебное пособие. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. VI, [2], 328 с.
- Koulicher A. La théorie des mouvements des peuples et la guerre civile en Russie // Revue internationale de sociologie. 1924. Vol. 32. P. 492-507; перевод на русск. язык этой статьи: Кулишер A. Теория движения народов и гражданская война в России (пер. с фр.). Предисл. и комментарии М. Тольца // Демографическое обозрение. 2014. № 3. С. 158-173.
- Kulischer A., Kulischer Е. Kriegs- und Wanderzüge. Weltgeschichte als Völkerbewegung. Berlin - Leipzig, 1932.
- Kulischer E.M. Europe on the Move: War and population changes 1917-47. 1948.
- Kulischer E.M. The Displacement of Population in Europe. Montreal, 1943.
- Ravenstein E. G. The Laws of Migration. In: Journal of the Statistical Society of London. 1885. Vol. 48. No. 2. P. 167-235.