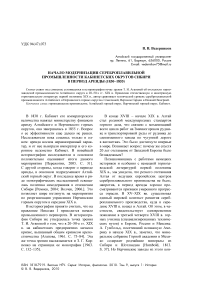Начало модернизации сереброплавильной промышленности кабинетских округов Сибири в период аренды (1830-1855)
Автор: Ведерников Виталий Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья ставит под сомнение устоявшуюся в историографии точку зрения Т. И. Агаповой об отсталости горнозаводской промышленности Алтайского округа в 20-50-х гг. XIX в. Привлекая отечественную и иностранную горнозаводскую литературу первой половины XIX в., автор сравнивает технический уровень сереброплавильной промышленности Алтайского и Нерчинского горных округов с Саксонией, Верхним Гарцем и Нижней Венгрией.
Горнозаводское производство, алтайский горный округ, нерчинский горный округ, кабинет
Короткий адрес: https://sciup.org/14737214
IDR: 14737214 | УДК: 94(47).073
Текст научной статьи Начало модернизации сереброплавильной промышленности кабинетских округов Сибири в период аренды (1830-1855)
В 1830 г. Кабинет его императорского величества навязал министерству финансов аренду Алтайского и Нерчинского горных округов, она завершилась в 1855 г. Вопрос о ее эффективности еще далеко не решен. Исследователи пока сошлись только в одном: аренда носила неравноправный характер, и от нее выиграли император и его коронное ведомство Кабинет. В новейшей историографии исследователи в основном положительно оценивают итоги данного мероприятия [Пережогин, 2005. С. 31]. С другой стороны, когда говорят о периоде аренды, в основном подразумевают Алтайский горный округ. В последнее время в ряде монографических исследований освещалась политика самодержавия в отношении Сибири [Ремнев, 2004; Волчек, 2006.]. Это позволяет шире взглянуть на мероприятия по реорганизации управления Нерчинским горным округом в середине XIX в.
В историографии принято считать, что на правление Николая I приходится начало промышленного переворота. В историографии Сибири же утвердилась точка зрения Т. И. Агаповой о том, что в 20–50-е гг. XIX в. на кабинетских предприятиях начался кризис, вызванный общим кризисом крепостничества [Агапова, 1961. С. 75–84]. Эта же точка зрения высказывается и З. Г. Карпенко на страницах ее монографии [1963. С. 132–135].
В конце XVIII – начале XIX в. Алтай стал родиной международных стандартов горного дела, что связано с механизацией всего цикла работ на Змеиногорском руднике и транспортировкой руды от рудника до одноименного завода по чугунной дороге в вагонетках. Это было достигнуто впервые в мире. Возникает вопрос: почему же спустя 20 лет отставание от Западной Европы было безнадежным?
Познакомившись с работами немецких историков и особенно с немецкой горнозаводской литературой первой половины XIX в., мы увидели, что резкого отставания Алтая от ведущих европейских центров сереброплавильного производства не было, напротив, в период аренды хорошо просматриваются признаки умеренного прогресса отрасли. В XV–XIХ вв. существовал единый мировой контекст развития сереброплавильного производства, куда в середине XVIII в. вошел и Алтай. Об этом, в частности, свидетельствует одновременное появление в третьей четверти XVIII в. горных училищ (специализированных технических вузов) в Европе, России и Мексике. А. Гумбольд, посетивший испанскую Америку в начале XIX в., заметил, что минеральное собрание Горной академии в Мехико содержит редчайшие минералы из Сибири и Шотландии [Humbold, 1813. S. 37]. Но Нерчинские заводы из этого кон-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © В. В. Ведерников, 2010
текста выпали. С. П. Татаринов, входивший в состав комиссии по ревизии Нерчинского горного округа 1828–1830 гг., констатировал, что заводы пребывают в упадке, но «сей упадок по строгом рассмотрении его произошел не от умышленности, нерадения или неусердия к пользе службы, а единственно от того, что тамошний отдаленный край, не имея никакого сообщения с другими горными заведениями, не мог заимствоваться новыми изобретениями и руководствоваться истинными правилами» 1.
В отечественной историографии устоялась точка зрения, что мануфактуры в России появились не из мелкотоварного производства, а на основе перенесения готовых организационных образцов из Западной Европы. Первые мануфактуры в России появляются именно в металлургии. В XV–XVI вв. в Саксонии вместо мелких и крошечных плавилен, привязанных к конкретным местам добычи, появляются мануфактуры, которые покупают руду у рудников. Исследователь данного процесса отмечает: «Изобретение печей новой конструкции и распространение тех технологий, которые применялись едва ли не в единичных случаях, также привели к промышленному прогрессу. Эти технологии раннего нового времени легли в основу происшедшего во второй половине XIX в. качественного роста металлургии» [Andersen, 1996. S. 40].
В середине XVI в. в Саксонии перешли на трехсложную технологию плавки [Winkler, 1837. S. 4]. На Колывано-Воскресенских заводах И. С. Христиани и И. Г. Улих учредили рудную плавку в крумофенах – печах старой конструкции, применявшихся в Саксонии с 1555 г., так как богатство Змеиногорских руд это позволяло. После рудной плавки шла извлекательная операция, при которой серебро добывалось из расплава с помощью жидкого свинца. На Алтае руды были «сухими», т. е. без содержания свинца, поэтому на Колывано-Воскресенских заводах свинцевали чистым свинцом, поставляемым из Нерчинских заводов в объеме до 40 тыс. пудов в год. Цикл плавки завершала разделительная операция, сопровождавшаяся большими угарами свинца. В Саксонии угорало более 80 % свинца [Andersen, 1996. S. 46], для сравнения, на Нерчинских заводах – 75–80 % [Боголюбский, 1872. С. 9].
К усовершенствованию производства в Западной Европе толкала международная конкуренция после того, как на рынок хлынуло дешевое мексиканское серебро. В 1854 г. доля Мексики в мировом производстве составила 67 %, а вместе с Перу, Боливией и Чили – 82 % 2. Серебро кабинетских округов Сибири поступало в личную казну императора, министерство финансов для чеканки денег покупало мексиканское серебро.
К 1830 г. на Алтае ежегодная добыча, соответственно, проплавка руд простиралась от 6,5 до 7,5 млн пудов. Семьдесят пять процентов всей добычи равными долями давали Змеиногорский, Петровский и Сала-ирский рудники. Заводы терпели большие издержки от оборота бедных руд. Плавка выглядела чрезмерно затратной. Так, по данным на 1833 г., было выплавлено 1 032 пуда серебра, для чего употреблено древесного угля 203 628 коробов, или 4 млн пудов; при этом к рубке дров, перевозке угля, руд и шлаков было привлечено 75 218 душ приписных крестьян 3. Иначе говоря, чтобы произвести один килограмм серебра, на Алтае нужно было затратить 4 т древесного угля и привлечь на подсобных работах 5 приписных крестьян. Ежегодно на Алтае производилось не менее 1 000 пудов серебра. Причем потеря рудного серебра в угаре составляла в 1795–1803 гг. 180 пудов (15 %), в 1809–1815 – 250 пудов (20 %), а в 1825–1830 более 580 пудов (47 %) 4. За период 1795–1830 гг. затраты нерчинского свинца возросли с 25 тыс. до 40 тыс. пудов.
Применительно к истории Нерчинской серебросвинцовой промышленности о периоде аренды известно очень мало, и то только в связи с началом успешной золотодобычи и истории каторги. Кабинет, взяв Нерчинские заводы в свое ведомство в 1787 г., столкнулся с совершенно новой ситуацией. Верхние, наиболее богатые слои месторождений, уже были истощены хищнической разработкой. В 1780 г. рудники не могли обеспечить двухгодового запаса. В 1790 г. было добыто слишком мало руды, этот год стал рубежным. Начиная с 1791 г. Нерчинские заводы стали приносить относительно небольшие, но хронические убытки. Долгое время Кабинет колебался, не зная как поступить: или поддерживать производство нерчинского серебра на уровне, который может обеспечить средняя годовая добыча руд, либо сокращать количество печей на заводах. В результате этих колебаний сложилась своеобразная система: «Алтайские заводы своими прибылями покрывают убытки заводов Нерчинских». К 1830 г. семь Нерчинских заводов давали 200 пудов серебра в год, в пять раз меньше семи Колы-вано-Воскресенских заводов и меньше, чем отдельно взятый Павловский или Локтев-ский заводы.
Считается, что причиной аренды стал дефицит оборотных средств Кабинета. Однако автор настоящей статьи обратил внимание на то, что в 1820-е гг. наметился застой производства, тогда как в ведущих сереброплавильных центрах Европы – Саксонии, Верхнем Гарце и Нижней Венгрии – начинался технический переворот. Министерство финансов к началу аренды накопило значительный опыт решения вопросов технического прогресса. К этому времени данное ведомство управляло металлургическими заводами Урала (5 губерний), Замос-ковского округа (9 губерний), а также Олонецкой и Архангельской губерний, не считая коллегий с частными заводчиками [Лохвицкий, 1864. С. 65–66].
Содержанием периода аренды стало не только решение экономических вопросов арендатора, но и реализация принципиальных общегосударственных стратегий. Одна из них – привлечение дворян из внутренних губерний на горную службу, чего не удалось достичь в середине XVIII в. после указа о вольности дворянства 1762 г. Другая цель кадровой реформы 1834 г. – пресечь повышение в классные чины выходцев из недворянских податных сословий. Смысл этой кадровой чистки заключался в том, что, попав в низшие классные чины в возрасте от 50 лет и старше, лица без высшего образования получали должности непосредственных распорядителей, например приставов плавильного производства, и руководили им так, как привыкли, и не были восприимчивы к новшествам.
Другая стратегия министерства финансов – широкое развертывание в Западной и Восточной Сибири казенной и частной золотопромышленности, в результате чего
Барнаул превратился в «золотое депо» Сибири (так удачно назвал его английский путешественник Ч. Котрэл, посетивший этот город зимой 1840/41 г.). Он, в частности, писал: «Крупные владельцы приисков каждый год делают огромные подарки офицерам, занятым в этом деле, и начальник всего округа за несколько лет этим способом делает очень большое состояние. Поскольку от него зависит определение цены золота, для владельца быть в хороших отношениях с ним составляет жизненную необходимость, и мы видели огромную плату отдельным лицам, от рапорта которых так много зависит. Это говорит, что есть лица более высокие по положению, чем тот, кто имеет часть щедрых приношений, и если вся система так коррумпирована, прибыль должна значительно уменьшаться» [Cottrell, 1842. P. 203].
К 1840-м гг. горное ведомство приобрело дурную репутацию в России. В рамках мер II Сибирского комитета по наведению порядка в управлении регионом в горные округа последовало два назначения на высшие должности. В 1847 г. главным начальником Алтайского горного округа был назначен П. П. Аносов, а генерал-губернатором Восточной Сибири – Н. Н. Муравьев-Амурский. Особенность была в том, что главный начальник Алтайского горного округа совмещал свою должность с должностью Томского гражданского губернатора, а генерал-губернатор Восточной Сибири, наоборот, совмещал свою должность с должностью главного начальника Нерчинских заводов.
П. П. Аносов был назначен на Алтай, когда здесь складывался «горный мир» – особенная местечковая система управления, сопряженная с махровым казнокрадством. В служебной переписке новый начальник указывал на то, что управляющий Салаир-ским краем подмешивал пустую породу в руду, чтобы выставить большие суммы на добычу, а управляющий Томским заводом не появлялся на предприятии полгода. В результате несчастного случая зимой 1851 г., когда опрокинулась повозка, в которой ехал Аносов, вследствие переохлаждения организма он тяжело заболел и скончался в Омске весной 1852 г. Поэтому он не успел выполнить свою программу действий. Его последователи на должности главного начальника Алтайских заводов не отличались чистоплотностью в отношении сумм, ассигнуемых на содержание заводов. В результате бывший горный начальник Алтайского округа Л. А. Соколовский стал покро- вителем «системы алтайского горного хозяйства» в горном отделении Кабинета.
В 1848 г. Н. Н. Муравьев в ходе ревизии Нерчинских заводов обнаружил, что производство серебра обходится дорого. Вторым шагом Муравьева стала ревизия заводских сумм, которая вскрыла беспорядки и казнокрадство вокруг поставок провианта. Годовая потребность Нерчинских заводов в провианте составляла порядка 250 тыс. пудов, в самом округе могли заготовить до 195 тыс. пудов хлеба, остальное количество покупалось в Верхнеудинске. «Хлебных недостатков» было открыто 116 тыс. пудов и «недоказанных расходов» на сумму 13 400 руб. серебром только по этой статье. Общая сумма долгов простиралась до 84 тыс. руб. 5 В 1850 г. с должности был снят горный начальник Родственный, назначенный в 1841 г. с Алтая. Находясь под следствием, он покинул Нерчинский завод и уехал в Иркутск. Правление следующего горного начальника Ковригина было недолгим, он тоже оказался замешан в злоупотреблениях. В июле 1851 г. вместо него вступил исполняющим должность горного начальника Нерчинских заводов подполковник Разгильдеев, успешно подвизавшийся с 1850 г. на Каре в должности управляющего золотыми промыслами. Как отмечалось по этому поводу, «добыча золота представлялась во всем привлекательном соблазне под впечатлениями надежд и обещаний, исходивших от горного начальника г. Разгильдеева» [Максимов, 1871. С. 354]. В 1849 г. было получено 24⅜ пуда лигатурного золота, в 1850 г. – 72 пуда, в 1851 г. – 61 пуд, 1852 – 68 пудов 6. При этом начался отток рабочих с серебряных рудников на золотые прииски. Если в 1845 г. на рудниках при команде состояло 3 275 работников, то в 1853 г. – 1 483 чел., т. е. в 2,2 раза меньше, а число забоев снизилось в эти годы с 289 до 84, т. е. в 3,5 раза 7. К тому же в 1851 г. нерчинские приписные крестьяне были причислены к Забайкальскому казачьему войску в целях заселения Приамурья. Эта мера лишила заводы и рудники вспомогательной рабочей силы на извозе угля, леса и руды и рубки дров. Тогда же закрылось 6 сереброплавильных заводов, был оставлен лишь Куто-марский.
В июне 1852 г. в исполнение распоряжения Муравьева новое деление Нерчинского заводского управления на три округа (Александровский, Шилкинский и Петровский) завершило реорганизацию управления. Автор усматривает в этой мере удар по сложившейся на Нерчинских заводах системе злоупотреблений.
Мы не совсем согласны с тем, что инициативу временной ликвидации сереброплавильного производства Кабинета в Восточном Забайкалье приписывают лично Муравьеву. Решение о размежевании государственных интересов с узковедомственными интересами Кабинета возникло не вдруг. Уже с конца XVIII в. от высших должностных лиц в Кабинет шли резкие жалобы на скудость нерчинских руд. Еще в конце 1820-х гг. предшественник Муравьева генерал-губернатор Лавинский видел убыточность горнозаводского производства не только вследствие плохих руд, но и из-за бедственного положения крестьян, вызванного зависимостью от заводского начальства [Исторический очерк …, 1913. C. 116].
В 1853 г. в Нерчинском горном округе работала авторитетная комиссия под руководством Озерского, фон Фитингофа и Эйх-вальда, результатом которой стало полное описание всех мест добычи 8. «Не все брошенные рудники были выработаны начисто, но многие из них разрабатывались безо всякого соблюдения правил и экономии, и исследованы на небольшие протяжения там, где беглая, поверхностная и нередко ошибочная разведка указывала, по–видимому, на выходы богатых руд» 9, – отмечалось в материалах комиссии.
В течение периода аренды на Нерчинских заводах была апробирована методика обогащения, разработанная на рудниках Верхнего Гарца, но она не принесла положительных результатов. На Алтае, напротив, произошло сокращение производственного брака на 10 % вследствие очень интенсивного проведения опытов и практического отбора технологий плавки, оказавшихся подходящими для металлургической обработки алтайских руд [Ведерников, 2005. С. 99–103]. Затраты рудного серебра на Алтае были такими же, как и в Саксонии. С другой стороны, на Алтайских заводах не перешли на каменный уголь, на рудниках не использовали проволочных канатов (тросов), не применяли железные рельсы при транспорте руды из рудников на поверхность, не ввели валовое обогащение руд.
Период аренды – переломный в истории сереброплавильной промышленности Алтая. Кабинет полностью утратил компетенцию в вопросах управления техническим прогрессом во вверенной ему отрасли цветной металлургии. В течение XIX в. (до 1882 г.) никто из членов Кабинета не посещал Алтайский горный округ с ревизией.
Подводя итоги, можно сделать вывод: вопреки сложившемуся в историографии представлению об отсталости горнозаводской промышленности Сибири в период аренды, умеренный прогресс отрасли в те годы все же имел место. Однако многие возможности модернизации были упущены. Достаточно отметить, что с 1855 до 1882 г. двести проектов технических улучшений лежало в Кабинете без движения. Вопиющий случай – вопрос о замене во взрывных подземных работах пороха динамитом: решение этой проблемы затянулось с 1863 до 1882 г. 10 Таким образом, в пореформенное время Кабинет мало сделал для прогресса отрасли, – можно сказать, что модернизация сереброплавильной промышленности была сорвана.