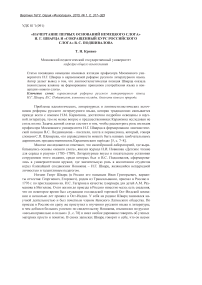«Начертание первых оснований немецкого слога» И. Г. Шварца и «Сокращенный курс российского слога» В. С. Подшивалова
Автор: Кривко Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена освещеню языковых взглядов профессора Московского университета И.Г. Шварца в карамзинской реформе русского литературного языка. Автор делает вывод о том, что лингвостилистическая позиция Шварца оказала значительное влияние на формирование принципов употребления языка в концепции «нового слога».
Карамзинская реформа русского литературного языка, и.г. шварц, в.с. подшивалов, языковые взгляды, близость языка к природе
Короткий адрес: https://sciup.org/146121634
IDR: 146121634 | УДК: 81’1(091)
Текст научной статьи «Начертание первых оснований немецкого слога» И. Г. Шварца и «Сокращенный курс российского слога» В. С. Подшивалова
Проблемы идеологических, литературных и лингвостилистических источников реформы русского литературного языка, которая традиционно связывается прежде всего с именем Н.М. Карамзина, достаточно подробно освещены в научной литературе, тем не менее вопрос о предшественниках Карамзина исследован не столь полно. Задача данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть роль взглядов профессора Московского университета И.Г. Шварца в формировании лингвистической позиции В.С. Подшивалова – писателя, поэта и переводчика, который, говоря словами С.П. Шевырева, «по справедливости можетъ быть названъ замѣчательнымъ даровитымъ предшественникомъ Карамзинскаго перiода» [5, с. 7–8].
Многие исследователи отмечают, что своеобразной лабораторией, где вырабатывались основы «нового слога», явился журнал Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789). Литературные вкусы и писательские установки сотрудников этого издания, среди которых был и В.С. Подшивалов, сформировались в университетском кружке, где значительную роль в воспитании студентов играл ближайший сподвижник Новикова – И.Г. Шварц, являвшийся незаурядной личностью и талантливым педагогом.
Иоганн Георг Шварц (в России его называли Иван Григорьевич, варианты отчества: Георгиевич, Егорович), родом из Трансильвании, приехал в Россию в 1776 г. по приглашению кн. И.С. Гагарина в качестве гувернера для детей А.М. Рахманова в Могилеве. О его жизни до приезда в Россию известно мало; есть сведения, что он некоторое время был служащим голландской торговой Ост-Индской компании и несколько лет прожил в Ост-Индии. У себя на родине Шварц занимался научной деятельностью и был почетным членом йенского Латинского общества. По приезде в Россию он сразу же приступил к изучению русского языка и литературы, в чем добился больших успехов: по свидетельству Новикова, изъяснялся по-русски «весьма правильно и сильно» [1, с. 78] и имел особое дарование говорить об ученых материях просто и понятно. В своих записках Шварц говорит о себе, что он всеми силами стремился принести пользу России, которую полюбил как свое второе отечество.
В Москве Шварц был посвящен в масоны. В 1779 г. состоялось его знакомство с Новиковым, в том же году он становится экстраординарным профессором Московского университета, а через год – ординарным профессором философии. Шварц преподавал немецкий язык, читал на русском языке курсы по эстетике, психологии, всеобщей литературе, философии истории и др. В ходе своих эстетикокритических лекций он разбирал сочинения древних авторов, немецких поэтов и прозаиков, современных итальянских, английских, французских, а также российских авторов. Шварц был идейным вдохновителем, а затем инспектором открытой в 1779 г. на средства Новикова и его соратников Педагогической семинарии – первого в России педагогического учебного заведения. При его активном участии в 1781 г. было открыто и Собрание университетских питомцев (опять же первое в России студенческое общество), на заседаниях которого студенты, в частности, читали свои переводы из древних и новых писателей.
Шварц играл ведущую роль в кругу московских мартинистов. В 1781 г. «для искания истинного масонства» он отправляется в Германию и, вернувшись в начале 1782 г., распространяет розенкрейцерство среди московских масонов. После возвращения из-за границы куратора университета И.И. Мелиссино начинаются неудачи Шварца по службе, и в июне 1782 г. он вынужден был подать в отставку. Но его деятельность не прекращается: в том же месяце по плану Шварца была учреждена Переводческая семинария (она же Филологическая), приватным образом он продолжает читать лекции студентам в доме, купленном Новиковым для Дружеского ученого общества, где и жил сам профессор. Он умер в возрасте 33 лет в феврале 1784 г., оставив неизгладимую память о себе в своих учениках. В кружке Новикова, уже после смерти Шварца, в 1785 г., оказался и молодой Карамзин, ставший в 1787 г. вместе с Александром Петровым соредактором журнала «Детское чтение для сердца и разума», в котором вскоре появляются первые оригинальные работы начинающего писателя.
Не все молодые сотрудники новиковских изданий в дальнейшем разделяли взгляды мистического масонства, но многие идеи вошли в их творчество благодаря деятельности университетского кружка. В этой среде усваивались и перерабатывались позиции современной философии и эстетики (учения И.Г. Зульцера, Ш. Батте, Х.Ф. Геллерта и др.), западные лингвостилистические теории, формировались представления об образцовом литературном выражении.
О языковых взглядах, которых придерживался Шварц, можно узнать из его работы, вышедшей в 1780 г. в университетской типографии, – «Начертание первых оснований немецкого слога для употребления в публичных лекциях при Императорском Московском университете». Издание представляет собой две небольшие книжки (форматом 1/8 листа) на немецком языке с параллельным переводом на русский. В первой книжке опубликована развернутая программа курса изящного немецкого слога, который состоит из трех частей: 1-я часть – теоретические основы немецкого слога, 2-я – практические основания (руководство к написанию различных сочинений и переводов), 3-я – «О нужных к образованию вкуса книгах». Здесь же напечатана «Речь о способах учения языков, говоренная 13 сентября 1779 года в Императорском Московском Университете при вступлении в профессоры немецкого языка». Вторая книжка содержит теорию немецкого слога и соответствует первой части курса. Шварц опирается на труды теоретиков немецкого литературного языка xVIII века и в предисловии называет имена Готшеда, Рамлера и Гейнаца, планируя в дальнейшем издать их работы в переводе на русский язык, что так и не было осуществлено. Подробнее об источниках книги И.Г. Шварца см.: [4, с. 579–584].
В своей речи о способах учения языков профессор воспроизводит и развивает основные пункты составленной им программы курса немецкого слога. Свою задачу он видит в том, чтобы «изъяснять всякое равное теченiе слога и согласованiе, не нести излишняго и непринадлѣжащаго къ вещи, и наконецъ изображать свое намѣренiе кратко и ясно» [6, Речь].
Шварц определяет слог ( Stil ) как «выраженiе многихъ, связь между собою имѣющихъ мыслей» [6, с. 201] и разделяет его на хороший и худой. Мысль и выражение мысли, по Шварцу, нераздельны, и основополагающим условием овладения хорошим слогом является познание истины, ведь «дѣйствительно красиво только истинное» [Ibid., с. 233]. Худой слог возникает, во-первых, от того, что автор выражает мысли, которые не составляют истины, неясны или несвязны, во-вторых, от неискусного выражения хороших мыслей, в-третьих, от «худыхъ выраженiй и худыхъ мыслей купно» [Ibid., ж5]. Портят слог старинные, провинциальные, «ново-сделанные» и иноязычные слова, которые, будучи не всем понятны, лишают авторскую речь ясности – первейшего свойства хорошего слога.
Шварц выдвигает следующие критерии хорошего слога:
-
– ясность: понятны мысли, слова и выражения, их точный смысл, связь;
-
– вкус в слоге: «хорошiя и избранныя мысли выражаются чистыми, изрядными и учтивыми словами» [Ibid., с. 247];
-
– непринужденность: писать следует «по собственному природному сложенiю и способности» [Ibid., с. 247, 249];
-
– разумность: «надлежитъ рачительно разсматривать, истинно ли то, о чемъ ты говоришь» [Ibid., с. 249].
Хороший слог составляют «разумная и острая живость въ мысли и рѣченiяхъ» [Ibid., с. 247] и благопристойность. Для того чтобы выработать такой слог, необходимо иметь хорошее воспитание, «обходиться съ просвѣщенными людьми мыслящими и говорящими благородно» [Ibid., с. 253], обладать природными способностями, заниматься чтением хороших книг. Слог зависит и от психологической склонности: например, горячему человеку свойственен стиль с жаром выражения высокой мысли, мягкому – присущи тонкость, осторожность, скромность. Подражая лучшим образцам, начинающий стилист должен стремиться к тому, чтобы следовать собственному ходу мыслей, а не рабски перенимать чужие выражения, в таком случае подражание будет «естественно, свободно и прiятно» [Ibid., с. 229].
Хороший вкус и благопристойность требуют от автора избегать простонародных слов и таких выражений, которые «имѣютъ шуточное или смѣшное знаменованiе» [Ibid., с. 23]. Шварц пишет: «Обыкновенныя и повсемѣстно вразуми-тельныя рѣченiя хотя и могутъ безопасно употребляемы быть, однако должно, такъ какъ и въ обыкновенныхъ словахъ всегда имѣть предъ глазами благопристойность, не все то употреблять, что чернь говоритъ и разумѣетъ, и удерживаться отъ древнихъ нѣмецкихъ пословицъ; ибо оныя при всей своей ясности и всеобщемъ употребленiи имѣютъ въ себѣ часто нѣчто суровое, невѣжливое и смѣшное» [Ibid., с. 39, 41].
Подобные мысли содержатся и в «Сокращенном курсе российского слога» В.С. Подшивалова (1796) – пособии, написанном для учащихся Университетского благородного пансиона. В этой работе отражены языковые взгляды писателей нового направления, связанного с сентиментализмом, в духе карамзинской реформы русского литературного языка.
Василий Сергеевич Подшивалов был зачислен в студенты Московского университета в 1782 г. и, как сын отставного солдата, являлся полным пансионером Дружеского ученого общества. Он был одаренным педагогом и литератором, в 17 лет уже преподавал словесность и логику в Университетском благородном пансионе. Подшивалов, безусловно, слушал в те годы лекции Шварца, он выступал на вечере памяти покойного профессора, много и успешно переводил с немецкого, и поэтому естественно считать, что книга «Entwurf der Grundsätze des deutschen Stils» была ему хорошо известна.
По определению Подшивалова, слог ( стиль ) – это «порядочное выраженїе своихъ и чужихъ мыслей» [2, с. 31]. Каждый человек различно мыслит, следовательно, каждый имеет и свой стиль письма, но только тот может быть назван хорошим стилистом, кто пишет «правильно и прїятно» [Ibid., с. 87].
Характеристики хорошего и худого слога у автора «Сокращенного курса…» совпадают с основными положениями работы Шварца. Хороший стиль должен быть «1. ясенъ, 2. негрубъ, 3. безъ всякаго принужденïя, 4. натураленъ, 5. благороденъ, 6. обиленъ, 7. хорошо связанъ» [Ibid., с. 91]. Подшивалов, как и Шварц, требует от автора писать естественно, природосообразно и разумно: «Чтобы писать непринужденно, то надобно дать вольное теченïе своимъ мыслямъ, и не подражая съ великою натяжкою какому либо автору, смотрѣть только, чтобъ онѣ не преступали предѣловъ истинны, и не запутались въ частныхъ тропахъ, метафорахъ, аллегорïяхъ и прочее» [Ibid., с. 92–93]. Естественность языка писателя выражается в простоте: «Надобно убѣгать рачительно высокопарныхъ рѣченïй, которыя часто затмѣваютъ стиль, и болѣе изобличаютъ педанта или школьника, безпрестанно проповѣдующаго о мирïадахъ, лабиринтахъ, сферахъ, Серафимахъ и пр.» [Ibid., с. 52]. Подшивалов призывает не подражать и великим людям, которые в этом погрешали.
В развитии умения писать хорошим слогом Подшивалов, так же как и Шварц, придает большое значение воспитанию, необходимости «сообразовываться съ людьми просвѣщенными» [Ibid., с. 92] и чтению хороших книг, которые написаны простым, но благородным и выразительным языком. Основанием русского литературного языка он называет язык «знатнѣйшей и богатѣйшей» Московской губернии как «стройнѣйшїй и благороднѣйшїй и болѣе всѣхъ выработанный» [Ibid., с. 44].
Чертами худого слога являются сбивчивость понятий, несвязность мыслей, использование не всем известных слов, к которым относятся провинциальные, устарелые, «вновь производимые» слова, портящие чистоту языка. «Худо» пишет тот, кто «употребляетъ простонародныя слова, охотникъ до присловицъ и поба-сенокъ, и кажется хочетъ увеселить только шутливаго ротозея» [Ibid., с. 91]. Эта мысль полностью соотносится с приведенным выше высказыванием Шварца, даже по части пословиц.
Одинаковы взгляды Шварца и Подшивалова и на заимствованные слова. Шварц допускает употребление только таких иноязычных слов, для которых в родном языке нельзя найти эквивалентов – «другихъ односмысленныхъ словъ» [6, с. 19, 21). Подшивалов пишет: «Естьли провинцïальныя слова хулы достойны, то тѣмъ болѣе чужестранныя, а особливо развратителями языка безъ нужды употре-бляемыя» [2, с. 45].
Исходное положение обоих авторов о том, что язык должен быть близок к природе, распространяется ими и на синтаксис литературного языка. Шварц в «Начертании первых оснований немецкого слога» советует авторам воздерживаться от излишних украшений, усложняющих синтаксические конструкции, а простые и
«сложенные» периоды (предложения) использовать попеременно – «къ стати и въ надлежащемъ мѣстѣ» [6, е3], во всем должны быть благоразумие, порядок и мера. Текст, состоящий из одних только сложных периодов, которые лишают язык естественности, не может быть красивым: «…чѣмъ предложенiя короче, безъ излишняго украшенiя и сходственнѣе съ природою, тѣмъ слогъ бываетъ красивѣе» [Ibid.]. Длинные периоды несовместимы с простотой и ясностью слога, поскольку в таком случае «смыслъ бываетъ разбросанъ по многимъ запятымъ и тѣмъ помраченъ» [Ibid., з].
Подшивалов также отдает предпочтение коротким предложениям и пишет о необходимости чередования одночленных и многочленных периодов. Автор «Сокращенного курса российского слога» подчеркивает особую «приятность» простых периодов: «Не должно думать, чтобъ слогъ особливую отъ того получалъ красоту, когда одни только [сложные] будутъ перïоды. Нѣтъ, иногда краткïя и безыскуствен-ныя предложенïя бываютъ гораздо яснѣе и прïятнѣе» [2, с. 64]. При переводе с иностранных языков он рекомендует «иногда, для большей ясности и вразумительности, раздроблять большïе перïоды, которые на Россïйскомъ языкѣ могутъ быть и скучны и темны» [Ibid., с. 39].
Отношение к использованию причастий у немецкого и русского авторов разное: Шварц называет педантизмом и свойством худого слога подражание в немецком языке «латинскимъ сочиненiемъ причастiй» [6, с. 221], а Подшивалов советует «не избѣгать употребленïя причастïй, которыя болѣе Россïйскому языку свойственны, нежели беспрестанное: который, который» [2, с. 52–53]. Но, по сути, здесь проявляется общность позиции авторов: употребление языка должно естественным образом проистекать из его свойств и особенностей лексики и грамматики.
Простота языка не исключает, а, напротив, предполагает разумное использование тропов и фигур, которые отличают литературный язык от обыденной разговорной речи и, как пишет Шварц, «дѣлаютъ слогъ высокимъ, живымъ и перемѣннымъ, и удерживаютъ отъ простонароднаго обычая говорить и писать» [6, с. 197]. Но применять их следует благоразумно, так как фигуры – это как бы соль речи, и от неумеренности в их использовании они теряют свою силу и достоинства. Подшивалов пишет: «Вообще о тропахъ замѣтить надлежитъ, что они тоже для стиля, что цвѣтки на полѣ; но естьли этихъ цвѣтковъ будетъ очень много, то поле бу-детъ слишкомъ пестро; а естьли мало, то непрïятно» [2, с. 57]. Отсюда видно, что чувство меры является свойством хорошего вкуса, а умеренность (нечто среднее, не много и не мало) – одной из важнейших составляющих категории «приятности».
В этом отношении показательна опубликованная в 6-й части «Детского чтения» статья «Разговор о простоте», в которой анонимный автор от лица сквозного персонажа (помещика Добросерда), беседуя с детьми о книге Фенелона «Похождения Телемаховы», рассуждает о легком слоге «безъ многихъ украшенiй» [3, 178]: «Въ художествахъ и словесныхъ наукахъ простота есть также одно изъ лучшихъ свойствъ. Она бываетъ тогда, когда вещь изображается или описывается пристойно ея свойству безъ постороннихъ прикрасъ. Она есть сама прелестная натура, которая показываетъ свои красоты, безъ намѣренiя казаться прекрасною; зеленой лугъ усѣянной маленькими цвѣточками, въ сравненiи съ разкрашеннымъ цвѣтникомъ, въ которомъ порядочно разсажены пышные цвѣты, вырощеные съ помощiю искуства» [Ibid., c. 179–180].
Автор призывает детей учиться благородной простоте словесного выражения у природы: «Послѣдуйте натурѣ, она и въ самомъ великолѣпiи своемъ пока-зываетъ простоту и всегда избираетъ прямые пути» [Ibid., с. 182–183]. Естествен- ность и безыскусность слога противопоставляются жеманной перифрастической речи: недопустимо «украшать, или лучше сказать, безобразить разговоръ свой выисканными прикрасами» [Ibid., с 182], например, называть носилки «удиви-тельнымъ огражденiемъ противу нападенiй грязи и дурной погоды» [Ibid., с. 183]. Конечно, нельзя утверждать, что данная статья написана именно Подшиваловым, но она выражает литературное кредо авторов «Детского чтения», и ее положения полностью соответствуют учению о простоте языка из «Сокращенного курса российского слога».
Итак, и Шварц, и Подшивалов считают, что хороший слог должен быть естественен (близок к природе) и благороден. «Кто старается разумно писать, тотъ обыкновенно будетъ писать природно и благородно , слѣдовательно избѣгнетъ какъ высокопарнаго, такъ и подлаго слога» [6, с. 251], – пишет Шварц. Эта мысль согласуется с популярным в университетском кружке учением аббата Шарля Батте о том, что основной принцип искусства должен заключаться в подражании природе изящной и облагороженной. Подшивалов пишет: «Хорошïй языкъ долженъ имѣть совершенную одинаковость, или единообразïе в словахъ и теченïи оныхъ, безъ вся-кихъ скачковъ и неровностей» [2, с. 44]. Оба автора выделяют ясность и краткость, соединенную с «обильностью», то есть полнотой изображения, как важнейшие черты образцового литературного выражения.
Сравнительный анализ «Начертания первых оснований немецкого слога» и «Сокращенного курса российского слога» позволяет сделать вывод, что филологические взгляды И.Г. Шварца оказали значительное влияние на формирование лингвистической позиции В.С. Подшивалова, нашли отражение в его концепции литературного языка и шире – в языке писателей школы «нового слога», ярчайшим представителем которой был Н.М. Карамзин.
Moscow State Pedagogical University the department of general linguistics
317 317
Список литературы «Начертание первых оснований немецкого слога» И. Г. Шварца и «Сокращенный курс российского слога» В. С. Подшивалова
- Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М.: Типография Грачева у Пречистенских ворот, 1867. 566 с.
- Подшивалов В.С. Сокращенный курс российского слога. М.: Унив. тип. у Ридигера и Клаудия, 1796. 140 с.
- Разговор о простоте//Детское чтение для сердца и разума. 1786. Часть 6, № 25. С. 177-180.
- Шварц Иван Григорьевич//Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета, за истекающее столетие, со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по азбучному порядку. М.: Унив. тип., 1855. Часть II. С. 571-599.
- Шевырев С.П. Антон Антонович Прокопович-Антонский. Воспоминание, посвященное воспитанникам Университетского благородного пансиона. М.: Унив. тип., 1848. 38 с.
- Schwarz G. Entwurf der Grundsatze des deutschen Stils zum Gebrauch der offentlichen Vorlesungen bei der Kaiserlichen Universitat zu Moskau, Erster Theil = Начертание первых оснований немецкого слога для употребления в публичных лекциях при Императорском Московском университете. Часть 1. М.: Унив. тип., 1780. 263 с.