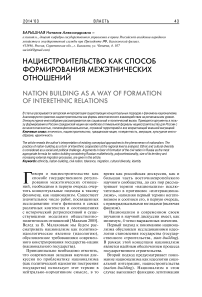Нациестроительство как способ формирования межэтнических отношений
Автор: Барышная Наталия Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается авторская интерпретация существующих концептуальных подходов к феномену национализма. Анализируются практики нациестроительства как формы межэтнического взаимодействия на региональном уровне. Этнокультурное многообразие рассматривается как социальный и политический вызов. Приводятся аргументы в пользу формирования в России гражданской нации как наиболее оптимальной формулы нациестроительства для России с ее многоэтничностью, поликонфессиональностью, огромной территорией и все возрастающей внешней миграцией.
Этничность, нациестроительство, гражданская нация, толерантность, миграция, культурное многообразие, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167393
IDR: 170167393
Текст научной статьи Нациестроительство как способ формирования межэтнических отношений
Г оворя о нациестроительстве как способе государственного регулирования межэтнических отношений, необходимо в первую очередь очертить концептуальные подходы к такому феномену, как национализм. Существует значительное число работ, посвященных исследованию этого феномена в самых различных контекстах и соотношениях с исторической ретроспективой и существующими моделями общественнополитических отношений [Малахов 2005]. Вслед за В. Малаховым мы будем рассматривать национализм как политикоидеологическое явление (идеологию), обусловленное требованиями современного конструирования государства-нации (национального государства).
Принципиально необходимо отметить, что современная западная научная дискуссия по проблематике национализма (как политической идеологии построения государства) использует этот термин в нейтрально-нормативном смысле, в то время как российская дискуссия, как и большая часть восточноевропейского научного сообщества, до сих пор рассматривает термин «национализм» исключительно в противовес «интернационализму», наполняя первый термин негативизмом и соотнося его, в первую очередь, с праворадикальными взглядами (включая фашизм).
Национализм в современном своем звучании в научной дискуссии имеет, как минимум, 4 четко выраженных значения.
Первый подход к пониманию национализма обусловлен исследованиями идеологии становления государства (государственного строительства, state-building ). В рамках этой концепции национализм является идейным обеспечением процесса государственного строительства.
Второй подход предусматривает понимание национализма как идеологии социальной интеграции, нациестроительства (nation-building). Национализм в этом случае выполняет функцию легитимации мероприятий по солидаризации/консоли-дации населения, превращения населения в граждан, культурно однородное сообщество, нацию.
Третий подход к пониманию национализма основан на идеологиях антиколониализма. По сути, это то, что в советских учебниках называлось национальноосвободительным движением. В современной англоязычной литературе весь комплекс политических явлений, связанных с борьбой народов Азии, Африки, Юго-Восточной Азии против колониализма, квалифицируется как национализм [Shulman 2002; Calhoun 1993; Ghosh 1969; Kahin 1969 ].
Четвертым подходом является понимание национализма как этнически окрашенного сепаратизма или сецессио-низма. Именно этот подход в последнее время является основным в политикообщественном дискурсе. Здесь под национализмом понимается именно этнически окрашенная идеология – этнонационализм (чеченский, квебекский, абхазский и пр.).
Необходимо сразу оговориться, что данные подходы выделяются инструментально и отражают лишь аналитические подходы, а не социально-политические свойства этого феномена.
Ключевой ошибкой социальных аналитиков (особенно регионального уровня) является перенос этих научных/ана-литических категорий в повседневную практику регионального управления. Считается, что предложенная модель разделения предполагает нормативную дихотомию: противопоставление «хорошего» гражданского национализма «плохому» этническому. При этом при анализе конкретных практик нациестроительства необходимо четко понимать, что последнее несет в себе огромное количество коннотаций, не позволяющих отнести тот или иной этнополитический, социальнополитический или экономический процесс к конкретной модели.
Тем не менее у каждой из моделей есть свои инструментально-управленческие плюсы и минусы.
Исходя из этого в своих дальнейших рассуждениях и опираясь на серию исследований в России [Этнополитическая ситуация… 2012], мы придерживаемся мнения, что наиболее оптимальной формулой нациестроительства для России с ее многоэтничностью, поликонфессиональ-ностью, огромной территорией и все возрастающей внешней миграцией (и, соответственно, ростом объема привнесенной этничности) является идея гражданской нации, оформляемой государственным (гражданским) национализмом.
В современной России высшее руководство страны формулирует новое понимание российского народа как гражданской нации1, а значит, и России как национального государства. В этом случае встают на место и обретают свои точные смыслы такие категории и понятия, как национальные интересы, национальные проекты, национальная система образования.
Однако слепое копирование западных моделей для целей российского нацие-строительства без учета уникальных свойств российской нации может привести к негативным последствиям.
В современном контексте Россия – это многообразие во всех его проявлениях. Здесь невозможна унификация по какому-то одному принципу. Страны Запада сформировали свою государственность в т.ч. и путем ассимиляции, как правило насильственной. Россия же исторически эволюционировала как многонациональное, многорелигиозное, многоцивилизационное государство путем адаптации, интеграции, совместного проживания многих племен и народов. Исторически Россия всегда отвергала ассимиляционный подход, сохраняя в своем составе все «приобретенные» языки, культуры, народы и народности.
Сейчас в России проживает более 160 национальностей, включающих в себя как крупные, так и мелкие этнические группы, имеющие свою культуру, свою историю, свой язык. В этой ситуации естественным видится создание собственной уникальной, отличной от имеющихся модели гражданской нации, направленной на формирование политического (в широком смысле) единства граждан – жителей страны. Безусловно, говоря о единстве, мы говорим о государственно-политическом единстве разных, многообразных по своему характеру и форме культур.
Ключевым вопросом при этом явля- ется то, какой смысл наше общество придает культурным (этническим, языковым, религиозным, расовым) различиям в процессе эволюционного развития как государство-нация, и кто, как и в каких целях эти различия использует. При этом мы как политические аналитики должны четко понимать, что не различия как таковые формируют границы, стены между сообществами и/или отдельными индивидами, а те смыслы, которые конкретным региональным (локальным) сообществом вкладываются в эти различия.
При внешне политкорректном увлечении тематикой многокультурности в контексте нациестроительства все, как правило, сводится к тривиальной «много-национальности». Постоянно на слуху из источников массмедиа подобные заявления: «в нашей стране, республике, области проживает более 100 наций»; «в нашей школе (вузе) учатся и взаимодействуют десятки этносов»; «представители некоренной национальности должны интегрироваться»… Такие фразы льются из уст управленцев разного уровня, экспертов, педагогов. К сожалению, ограниченный научный багаж, сложившаяся система взглядов, доминирующий дискурс не позволяют большинству отечественных экспертов и управленцев представить себе россиян как людей одной общероссийской культуры и как сообщество по общей идентичности, а не совокупность носителей одинаковых паспортов.
Культурное многообразие состоит не только в том, что носителям «больших» и «малых» культур воздается равное должное и предоставляется «культурная свобода». Необходимо четко понимать, что сутью понятия «культурное многообразие» является признание многообразных форм самих культурных общностей, признание и спонсирование (путем финансирования разного рода фольклорных мероприятий) не только различий (которые маркируют и реифицируют этнокультурные границы в сообществе), но и схожести, одинаковости, которые чаще преобладают над различиями. Мы должны понять, что сердцевиной культурного многообразия является признание культурной сложности на уровне одного человека, а не только группы.
К сожалению, существующие отечественные научный, политический и управленческий арсеналы понимания и воздействия не предполагают, что такое возможно и что такое есть норма, а не аномалия, хотя именно об этом говорят авторы доклада Глобальной комиссии по международной миграции
«В результате процесса глобализации и роста межнациональных сообществ существующие понятия гражданства и национального государства получают иные определения. Вероятно, в будущем все больше людей будут иметь более чем одну национальность, идентифицироваться более чем с одной культурой и жить более чем в одной стране. Это развитие будет связано с серьезными вызовами, а также с большими возможностями для государств и обществ…» [Миграция… 2006].
Изданный на русском языке Доклад ООН о человеческом развитии посвящен теме «Культурная свобода в современном мире» и раскрывает ключевые положения, определяющие возможности этнокультурной интеграции.
-
1. Культурная свобода является важнейшей составляющей человеческого развития, потому что для полноценной жизни индивиду абсолютно необходимо определить свою идентичность [Культурная свобода… 2004: 1].
-
2. Чувство самобытности и принадлежности к группе, разделяющей общие ценности, имеет огромное значение для индивида. Однако каждый человек может отождествлять себя со многими различными группами [Культурная свобода… 2004: 3].
-
3. Чтобы стать полноценными членами обществ, построенных на многообразии, и воспринимать всемирные ценности терпимости и уважения к всеобщим правам человека, индивиды должны выйти из жестких рамок той или иной идентичности [Культурная свобода… 2004: 12].
Таким образом, современное научное и экспертное знание все больше подходит к тому, что сами по себе культурные различия и основанные на них групповые коалиции людей есть исторически подвижные понятия. Их содержание и смысл постоянно меняются и имеют большое географическое (территориальное) разнообразие. Но, самое главное, их существование – это результат целенаправленных усилий со стороны социальных, этнических, религиозных и политических элит, результат социального конструирования.
То, что воспринимается как социальная группа (народ, нация, меньшинство, диа- спора, раса и т. д.), на самом деле представляет собой не реально существующее коллективное тело со своим менталитетом, характером, волей, судьбой, а человеческие (социальные, политические, эмоциональные) отношения по поводу воображаемых коалиций (сообществ, в терминологии Б. Андерсона) [Андерсон 2001].
Иначе говоря, специфика российской ситуации (подчеркнем, что речь идет сейчас в первую очередь о городском российском пространстве) состоит в том, что, несмотря на политику поощрения этнич-ности, она крайне слабо выражена на уровне реальных социокультурных практик.
Однако, на наш взгляд, не следует недооценивать культурную гомогенизацию общества, происшедшую в советскую эпоху под лозунгом формирования «советского человека» [Левада 2004]. По сути, эта гомогенизация была вызвана как объективными процессами модернизации всего мирового сообщества, и СССР здесь не был исключением, так и внутренней политикой авторитарного государства, в котором практически все элементы жизни находились под контролем государства и в соответствии с неизбежными в таких условиях социальными практиками надзора и контроля.
С одной стороны – возрастающая урбанизация страны, массовые трудовые миграции (целина, БАМ, всероссийские ударные комсомольские стройки и т.д.), всеобщая воинская повинность и другие факторы эпохи Модерна, с другой – идео-кратический режим, который опирался на единую инерционную систему образования и полностью подконтрольные целям идеологии СМИ, атеистическое воспитание и атеистическую пропаганду – все это привело к уничтожению механизмов трансляции традиции . По сути, результатом семи десятилетий советской власти было фактическое исчезновение традиционных форм жизни (религиозных, сословных, этнических). Крушение традиционалистского общества в 20-е гг. прошлого столетия оказалось безвозвратным1.
Кроме того, нельзя отрицать тот факт, что в советский период российской истории сложилась особая форма лояльности. Это была не столько идеологическая, сколько культурная лояльность – лояльность к доминирующим ценностям, которые спокойно включали в себя самые разные этнически нагруженные элементы. При этом эти элементы (как, например, «кавказская» или «украинская» кухня) не воспринимались как собственность какой-либо этнической группы и не были таковой. Необходимо признать, что к моменту распада СССР культура была русскоязычной, но она не была русской в этническом смысле слова, многие авторы из республик СССР писали о своем чувственном восприятии собственных национальных (этнических) историй, писали свои этнографические по сути сказки, но на русском языке.
Другое обстоятельство, заставляющее говорить о российской специфике современного процесса межэтнических отношений, а значит и специфике механизмов интеграции населения страны в одну общность, связано с особым составом миграционного потока в постсоветский период: большинство иммигрантов – это выходцы из республик бывшего СССР, прошедшие социализацию в тех же институтах, что и их окружение. По сути, несмотря на то что еще в старых советских паспортах в графе «национальность» было что-то указано, в страну ехало русскоязычное население, обладающее знаниями и навыками совместного межкультурного общежития.
Очевидно, что ситуация в будущем, по-видимому, будет меняться. Во-первых, среди мигрантов из так называемого ближнего зарубежья растет поколение молодых людей, социализировавшихся в постсоветских условиях. Они усвоили иные образцы поведения и мышления, чем их тридцати-, сорокалетние сограждане. Во-вторых, имеется существенный приток в Россию выходцев из дальнего зарубежья, в частности из Китая и Юго-восточной Азии. Это значит, что культурные идентичности, отличные от идентичности большинства (русскоязычного) населения, со временем будут искать и, возможно, находить формы публичной артикуляции в виде «демонстративной отличительности/ина-ковости». Пока же культурные практики, связанные с этничностью, по данным исследований, сосредоточены в основном в приватной сфере.
Наиболее сложным аспектом реали- зации национальной политики (именно как политики нациестроительства, а не выстраивания отношений с этническими меньшинствами) является тот факт, что значительное число лидеров самых разных национально-культурных объединений, движений, форумов и ассамблей не желают расставаться с эссенциалистиче-ским (этнонациональным) восприятием себя как наций. Поэтому любые разговоры о формировании «новой» российской нации воспринимаются если не агрессивно, то весьма сдержанно. На наш взгляд, необходимо разъяснение всему населению страны существующей ситуации, связанной с формированием российской идентичности: нациями были, есть и будут оставаться все российские народы (народности), обладающие этим статусом, и в первую очередь те системообразующие группы, которые обладают своей государственностью в рамках Конституции РФ1.
Тем не менее главная идея современной формулы нациестроительства заключается в сохранении возможности (ре)пре-зентации своей этнокультурной идентичности, но не вместо общероссийской, а вместе с ней. Многосложность и многогранность современных социальных (политических, экономических) идентификаций позволяет принять множественность проявления идентичности каждого индивида как данность. Эту формулу еще в начале ХХ столетия привел философ Г.П. Федотов [Федотов 1991], а совсем недавно, в 2008 г., В.В. Путин отметил, что «Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос будет чувствовать себя в России как в собственном доме2».